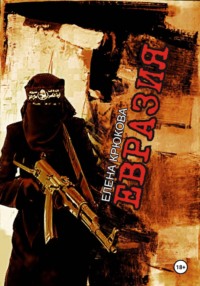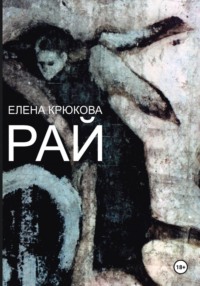полная версия
полная версияХоспис
Отец перестал дышать.
Ага, проняло!
Надо успеть. Успеть утешить его. Успокоить.
– Это лишь мои… такие… безумные видения… та жизнь, которую… я… только хотел…
Матвей сцепил и судорожно, крепко сжал руки, будто приготовился рыдать.
– Прожить…
Голубь бился крыльями, грудью в стены, в стекла.
– Да так и… не прожил…
Матвей положил руки на плечи сына.
– Сыночек. Мне это все равно. Прожил, не прожил. Больной, здоровый. Вор, честный, царь, нищий. Все равно мне! Ты со мной, и это главное. Главное! Я…
Слюну сглотнул, как водку.
– Люблю тебя…
И, да, вот это и правда было главное.
Здесь, на земле.
***
Чувствовал себя ребенком. Переселялся в давно погибшее время.
И нельзя сказать, что спал. Переходил то во свет, то в мрак, то выныривал в сознанье, то медленно, водорослью, тянулся вниз, погружался в синюю, мертвенную водяную толщу. Там плыл. Раздвигал руками туманную зелень, болотный прозрачный сумрак. Не хотел на поверхность: на поверхности ждала боль. Воздух больно, резко втекал в ошметки легких. Его надо было медленно, лечебно пить, а Марк его глотал. И давился.
Поэтому так важно было стать ребенком.
Ребенок, он маленький и юркий; он убегает от преследователей. Он прыгает в море с тонущей лодки, и никакая волна не захлестнет его. Он плавает, как поплавок. Не утонет.
Вот Марк, дитя, сидит под наряженной елкой. Еще живы его братики и сестрички; это потом они станут мертвыми, и он долго не будет понимать, что это такое – мертвый человек. Чужак? Иностранец? Смерть, это название другой страны? Люди уезжают в смерть навсегда. Неужели они потом не хотят вернуться на родину?
Марк сидит, слышит, как его зовут нежно: «Ма-а-а-а-рик!..» Марик – это он, Марик-комарик, дырявый воздушный шарик. Он сидит под колючей, царственно изукрашенной стекляшками и золотыми шишками веткой, ноги крест-накрест, колени раскинуты, спина сгорблена. Малютка, а сидит, как старик. Наклонился низко. У него в руках игрушка. Даже не игрушка: картонный кружок, с одной стороны выкрашен густым синим цветом, таким выкрашены стены в туалете в детском саду, с другой – просто чистый, белый, снеговой. На снежной стороне карандашом криво накарябан год. Тысяча девятьсот… Кто это написал?
Тысяча, девятьсот, и еще две глупые цифры.
Марк морщит лоб. Вспоминает.
Еще пристально смотрит. Цифры пляшут. Картонный кружок катится из рук на паркет.
Да это же он сам написал! В прошлом году!
Потому что у нового года последняя цифра совсем другая.
Марк знает уже все цифры, но еще не все буквы.
Он глядит, глядит на четыре цифры, на четыре прошлых, крепко зашитых, заросших раны.
Когда он в прошлом году упал на откосе и поранил камнем коленку до кости, отец рану ему зашивал, предварительно обколов колено кучей уколов, чтобы – без боли, но все равно было дико больно, и Марк орал во всю глотку, и сорвал голос. И потом хрипел, как серый волк из сказки, и ему теперь лечили горло. Четыре старых цифры! Этот год исчез. Умер. Он умер. А Марк почему не умер? Значит, время умирает, а люди в нем – нет? Никогда?
Вертел в пухлых пальцах картонный кружок.
И вдруг как молния пробила его, насквозь, по хребту, до ребер, до пяток!
Понял: эти четыре цифры никогда не вернутся.
Не повторить. Этот год ушел навсегда. Его больше нет. И не будет.
А он, Марк, все такой же? Он-то – будет? или тоже нет?!
Его захлестнула невозвратность. Слезы волной захлестнули и полились. Сами, он не просил.
Невозвратное. Не вернуть. Никогда. Это он впервые в жизни ощутил глупым балованным ребенком, сидя под густо, щедро наряженной елкой. За старинными шкафами и дубовыми тумбочками. За огромными старыми, высокими и широкими окнами, для тепла заклеенными вдоль рам газетными лентами; мать резала газеты ножницами, обмазывала клейстером и притискивала бумагу между рамой и стеклом, чтобы ветром в окна не дуло. Все вокруг было старое, кроме мамы, отца, детей, пахучей, вчера срубленной в лесу елки, кроме него самого. Невозвратное, надо же такому случиться. А если – вернуть? А – как? Есть способы? Разве есть такая хитрость?
Лицо, мокрое и шевелящееся всеми живыми слезами, позорно и тайно блестело, слезы текли по шее, рубашонка вся вымокла на груди, будто он пил молоко, или сок, или чай и постыдно облился, и вот теперь надо рубашку стирать, а это хлопоты маме, но не вернешь, никогда не вернешь, ты слышишь, никогда себя не вернешь, и елку ту не вернешь, и смех отца, и тот чудный, ароматный и сочный пирог с яблоками, он пах летом и пчелами, а мать в него втыкала крохотные, как бабочки, свечи, и выключили свет, и свечки – спичками зажгли, одну за другой, и дети смеялись и хлопали в ладоши, – не будет, ничего этого уже никогда не будет.
И он скрючился, свалился боком на пол и зарыдал так, что из спальни прибежала растрепанная мать, ринулась к нему сестра, в одной руке кастрюля с горячим, на ночь, молоком, в другой розетка для липового меда, и широкими, нервными шагами промерял гостиную отец, лицо его пылало бешеной тревогой, а вот и братцы, в ночных сорочках, босиком стояли на навощенном паркете и слепо таращились на Марка, а он свернутым в клубок зимним котом все лежал на полу, лежал и плакал, как орал, – время! время! его больше не вернешь! никогда не вернешь его больше! ушло! – и корчился в судорогах, и бил ногами, и мать надсадно орала: «Мотя! У него истерика! Дай скорее бром! Бром в секретере! На верхней полке! В желтом пузырьке!» – и не было ничего в мире, что достойно было бы его утешить в горе его, и не было утешения.
Его напоили дурманными каплями. Держали на руках, кормили из столовой ложки теплой манной кашей. Пели нежные песенки прямо в уши. Гладили волосы, целовали влажный лоб. Любили. Всячески доказывали и показывали ему, как он любим, и это и есть самое главное в жизни, а не какие-то слезы, не понять с какого горя. Ведь горя-то никакого и нет. На руках отнесли в кровать. Укрывали до подбородка атласным одеялом, обвернутым кружевным пододеяльником. Все было как всегда. Тихо и счастливо. Не о чем было плакать. И ногами сучить.
Еще минуту, другую сидели над кроваткой его. Потом неслышно вышли и выключили свет. Братики и сестры уже спали. Дом погрузился в великую тишь. Барометр показывал метель и бурю. Она уже люто взвывала за царскими печальными окнами, обнимая собою полмира. Марк еле прикрыл глаза. Он не спал. Делал вид, что спал. Сам перед собою делал вид. Он знал: перед собой притворяешься, и скорее уснешь. Из-под прижмуренных век он тайком глядел на затянутое кружевом метели темно-синее окно. Метель танцевала, веселилась. Вдруг в углу, рядом с окном, он увидел: в такт метели весело пляшут прозрачные серые тени. Похоже на паутину, только она все время рвется и шевелится. И невидимый ветер подбрасывает ее, а потом на миг опять сшивает. И опять рвет надвое, натрое.
Марк широко раскрыл глаза. Вот это да! Было страшно. Перед ним плясали существа другого мира, не этого, привычного. Он их никогда не видел. Не знал. Они живые. Бесплотные и безымянные. У них нет имени. И тел тоже нет; и это не елочные игрушки, и не картофельные очистки, и не метельные вихри. Но они все равно танцуют. А что, если встать и разглядеть, кто они? Подойти ближе? Очень осторожно?
Бормоча: вы только не обижайтесь, существа, я вам ничего плохого не сделаю, я только немного на вас погляжу, – Марк вылез из постели и подошел, во фланелевой пижаме, к окну. Фонарь горел, обнятый метелью, перед подъездом. Никого на улице. Все сидят по домам и едят пироги и конфеты. И пьют взрослое, опасное вино. Марк осторожно, медленно и хитро подкрадывался к пляшущим теням, как настоящий охотник. Жалко, нет лука и стрел! И даже пистолета нет! А ты что, хотел бы их убить?! Ишь чего захотел! Разве ты… ты… такой жестокий?
Он подкрался совсем близко. Уже так ясно видел их – серых гигантских бабочек, призрачных махаонов с размахом танцующих крыльев. Крылья складывались и раскидывались, серая, нежная рвань таяла на глазах. Марк протянул ручонки. Тени отшатнулись. Марк сделал еще шаг вперед. Тени вздрогнули и свились в клубок. Он, дрожа, еще потянул руки вперед, во тьму. Его пальцы, ладони уперлись в стену. Пляшущие бабочки исчезли. Может, это были ночные ангелы, он же не знал.
Он не знал тогда, ребенок, что дети до трех лет видят, особенно ночами, мир иной; он узнал об этом, только когда стал умирать. Он лежал и умирал, и боль окутывала его и рубила на куски, и призрачные бабочки прилетали. И танцевали. И махали над ним крыльями, белыми бинтами, серыми рваными тряпками, такими мать мыла полы и выжимала их в поганое ведро. Он узнавал их. Улыбался им сквозь боль, как родным. Шептал: вы, ангелы, ну вот, вы же есть, я все понял, да, не надо больше слез, плакать не надо, иной мир есть, и точка, и дело с концом, и это мне утешенье! Он не верил тому, что сам себе бормотал. Тени плясали над ним, над его уходящей жизнью. И ничего из целого мира, пройденного им из конца в конец, было не швырнуть им навстречу. Не вернуть.
И Марк, лежа один в ночной тишине, слыша из другой комнаты слабый храп старого отца, тихо обращался в дитя, в эту серую бабочку, сшитого из окровавленных, грязных больничных бинтов серого ангела, все знающего про боль, смерть и чудо, и все повторял себе: будьте как дети, и внидете в Царствие Небесное, да, кажется, так однажды шептал отец над ним, когда укладывал его спать, и Марк запомнил, и Царствие Небесное представлялось ему таким новогодним дворцом: всюду нарядные елки, и золотые звезды, и алые шары-фонари в жгучей метели, и картонные золоченые лодки в темном колючем море тихо плывут, и салют взрывается в сизых и черных, изумрудных ветвях, и хлещет серебряный дождь, вьется в кольца тугой серпантин, – мир один, и другого не будет. И танцуют во дворце счастливые люди, их много, их толпы, это великий счастливый народ, он всегда идет только вперед, – как ледоход.
Зима пройдет! И пойдет ледоход.
И отец снова оденет его в матерчатое смешное пальтишко, и, взяв за руку, поведет на откос – ледоход смотреть.
И Марк будет глядеть, смеяться, вздыхать и от радости жить – умирать.
…и теперь, умирая, он все стоит там, на этом обрыве над его родной рекой, и отец все так же крепко, цепко и вместе с тем нежно, бережно держит его за руку, а льдины плывут по безумной реке, будто, смеясь, нарвали грязной ненужной бумаги и пустили по теченью, набросали в холодные, яростные разводы густо-синей воды: в ней разом, торжественно и пьяно, отражается все сумасшедшее небо. Сапогами войди в синий ручей! За твоей маленькой спиной маленький храм: его еще не взорвали. Ты помнишь этот грохот однажды поутру. Мать и сестры уши зажали. А потом все дети побежали на руины, развалины – собирать яркие цветные, ягодные осколки, искры стекла лампадного, – зачем шептали глупые старухи: на земле мир, в человецех благоволение? Нет никакого мира! А есть – на полмира – лютый ледоход! И вперед! Ты еще не знаешь слов, что удавкой затянут глотку тебе. Ты еще не целуешь женщин и не убиваешь и не предаешь людей. Не кромсаешь огромным тесаком на дорогих сердцу поминках злую норвежскую, вкуснейшую селедку – ее радужен срез, будто нефтяной. Как детские твои слезы, солона рыба. Льдины, эти льдины медленно плывут. И ты уже не на обрыве, не на круче, и рука отца не цепляет за руку тебя. Ты на льдине стоишь, ты собака, ты воешь, подняв кудлатую башку, воешь из сиянья на полмира, а потом – из страшного, безвидного мрака, и на льдине твой дом, и плывет за тобою сарай, где мать и отец хранят старые салазки и дедовы самовары, а за ним на ледяной сковородке плывут руины убитой церкви, и кренится твоя льдина, валеночки скользят, как это отец шептал святые загадочные слова: сим победиши… – нет! Марк, нет! Плачешь, ты плачешь! И, плача, шепчешь: ерунда, неправда, все, все победимо, все смертно и жалко, – все мимо тебя плывет, уплывает в дневном сверканье, в ночи на Пасху, в апрельском мареве, в разливе, неуследимо, мимо, мимо, – бормочи, повторяй мокрыми больными губами великую подсказку Божью, а ты забыл слова, да ты ж никогда не молился, молитва для тебя была чем-то лишним и отжившим, как старая серебряная пашотница, а яйцо съели, выели до разбитой скорлупы, – с чего бы начать?.. с похорон, родов, крестин, а может, со свадьбы?.. а у тебя и свадьбы-то не было, позор! Чёрт тебя дери, Марк, а ведь и правда не было!.. Свадьбы не было, да, чёрт, чёрт… Чертыхаться так громко нельзя, по-святому это ведь святотатство, да ведь ты и никогда не был праведником! С ума не сходи. Гляди: льдины плывут. И одно у тебя осталось, это богатство: грязное серебро, умирающий жемчуг, бархат, ветрами рытый, траченный молью зимний песец, и мордочка глядит умильно, глаза – мертвые бусины, нос – кожаный лоскут, ты и сам таким вот чучелом станешь… дудки! не станешь! будешь лежать в кромешном мраке, и черви тебя жрать будут!.. накрытый винной скатертью стол, и крошки стряхивает чья-то рыночным, мясным чугунным крюком согнутая, старая рука… а вот из марева голос проклюнулся, пьяный певец, хрипотцой царапает, это пластинка или у соседей поют?.. выгиб венского стула, за него можно схватиться, если падаешь, папа, а от чего люди падают?.. от пьянства?.. от того, что они вдруг умирают?.. из круглого радио налетает мощь черного пьяного гула, и закладывает уши, как в самолете, а ты-то на самолете еще не летал, щенок, откуда же ты знаешь?.. битый хрусталь, посуда бьется к счастью, гриб на ржавой проволоке, к ежовой ветке прикручен, мама, я хочу, чтобы под елкой лежал пирог с брусникой!.. я очень, очень, очень люблю пирог с брусникой… и еще чтобы Дед Мороз положил мне подарок в ботинок… а что ты хочешь, сынок, в подарок?.. этого вы никто не знаете, это Дед Мороз один знает… игрушки блестят, глазам больно… стекло лиловое, дутое – оно сейчас лопнет, как воздушный шарик, колючая ветка ткнет его в живой бок копьем, еловый мир вымучен и измучен, подарен, разбит, подожжен, забыт и склеен, опять украшен – сдобным золотом куполов, тюрбанами апельсинов и лимонов, ожерельями слез, тюрьмою красных кирпичных башен, а вот и часы наручные, на них наступили каблуком, и треснула стекляшка, захрустела – полоумные стрелки вздрогнули и застыли навек: кости рук, сочлененья стали, фаланги пыли, а вот золотая звезда – на верхушку!.. папа, я туда не дотянусь, верхушка это очень далеко, это как на том свете, а что такое тот свет?.. праздники, эй, а разница есть между вами?.. Льдины плывут, Рождество уплывает, и пламя тает, поутру гаснут фонари, а может, во храме свечи, в том храме, откуда я икону своровал, Боже, прости мне грех, Боже, я угасаю, но я же так не хотел, не хочу, нет!.. я стою на берегу, а вокруг меня все плывет, и уплывают Пасхи, Первомаи, Троицы, войны, рожденья, любви и смерти, и только едва посмейте вспомнить блаженное время – тут же со скатерти все сгребут, выкинут на задворки, – все до крохи: звезды и танки, "прощай молодость" боты, лохматые грязные опорки и красно-золотую, как осенний лист, парчу, пуховки в розовой томной пудре, трюмо, мамины бусы коралловой ниткой, с солью липкий ржаной, синезвездный китайский сервиз, по густой темной, грозовой сини бежит веселое церковное золото, отрывной календарь, где серп и молот, скриплой калитки серые мышьи доски… все вышвырнут, да еще и плюнут вослед отжившему: рогатку, воробьев влет подбивать, грубую, с опилками вату с мазью врача товарища Вишневского, чтобы лечить синяки, рассосутся – и следа не останется, медное кольцо с бутылочной стекляшкой, дарил ледащей девчонке, потом она стала толстой матроной, колоду сальных карт со стола тряской плацкарты… там еще вместо короля был усатый вождь нарисован… водку дешевую, "коленвал", кою жадно из горла глотали, до дна вливали в себя, юные и жестокие, в собачьих, вонючих подъездах, сильнее маятника шатаясь и все-таки держась на кривых ногах, будто вот-вот пойдут вприсядку… все, и красные плакаты, и красные пожары, и этот ледоход грозный, последний, а льдины прямо в заморское небо плыли.
Плыли… плыли…
В такое далекое небо…
…он уже не замечал, что он пел – сияньем охрипшей от криков глотки, губами, обращенными в сердце, и сердцем, что запеклось от боли; пел, сверкал песней, сам становился солнцем и гордо плывущей под яростным солнцем, умирающей льдиной, – и внезапно понял, осенило его: он и есть та самая льдина, и так каждый человек, это лед в ледоходе, это просто мощная, неуклонная река несет на горбу его, и других, и весь мир, – и надо смириться с этим, и полюбить этот речной неостановимый ход, это беспощадное могучее солнце, под которым все равно все растает – и наши беды, и наши праздники, и наши страшные, ничтожные преступленья, и, что жальче всего, наша великая любовь к встреченным на пути людям. Они еще не знают о ледоходе. Они еще не глядели вниз с кручи, с обрыва. Они еще все только узнают. Завтра.
…прибегут на обрыв. В ужасе – застынут.
…и заплачут. И тоже, как Марк, запоют на прощанье.
***
…да, запел.
Не пел никогда, а тут захотел попробовать голос: хоть напоследок.
О чем была простая песня? Он не знал. Он мусолил, жевал слова во рту, и они сразу превращались в волчий вой, и вой ветра в полях. Он пел и переставал быть человеком. Отца не было дома – он уковылял в больницу и в аптеку за лекарствами, все кончились. Надо было много обезболивающих, они стоили очень дорого, Матвея Филиппыча выручали врачи, давали ему морфин, по старой памяти: лучший хирург города! Был когда-то, уточнял Матвей, сгибался в три погибели, благодаря.
Отец ушел из дома и ничего не слышал, как сын поет и плачет. Марк пел и плакал сразу, песня и слезы – это были два весла, он погружал их в воду времени и плыл, дальше плыл в утлой, дырявой лодке своего тела. Тело, что это, зачем оно? Почему люди не рождаются сразу в виде души? Почему надо болеть, страдать, кричать от боли, зачем-то умирать? Если души бессмертны, почему мы сразу ими не становимся?
…ему лишь казалось, что он пел: на самом деле он кряхтел и всхлипывал. Ключ затрещал в замке. Вернулся Матвей. Снял шубу, взгромоздил на вешалку, напялил свой старый, красный как советский флаг, бархатный халат с кистями и длинным поясом. Марк не успел оборвать песню. Ее хрипы еще таяли в духоте. Матвей подошел, в замерзших руках он держал пакеты с лекарствами и пищей.
– Вот, миленький, вот!.. откроем "Книгу о вкусной и здоровой пище"… вместе, вместе почитаем!.. а что бы нам вместе ее не почитать?.. как сказку… старую сказку… Да?.. сказку… И что же мы с тобой сегодня на обед приготовим? А? Не слышу… что?.. ах, ты хочешь артишоки в белом вине?.. нет, нет, не будет сегодня артишоков… все мушкетеры их съели… А мы… что же будет с нами?.. да ничего особенного… я сейчас сварганю такое блюдо – за уши не оттянешь… Я такое купил, такое… твое любимое… м-м-м-м…
Что он купил, он не говорил. Из пакета потягивало копченой рыбой.
– Сейчас, сынок, картошечку начищу… целую лохань, чтобы и назавтра хватило…
Форточка была открыта. Матвей ушел на кухню. В форточку тихо влетал мелкий снег.
Потом в форточку влетел голубь.
Белый голубь, один.
Потом влетел еще один. Два голубя кружились под люстрой, садились на спинки стульев, на стол, опять взлетали. Потом в форточку стали влетать голуби, один за другим; и все белые, только один сизарь среди царской белизны затесался. Откуда они тут, да посреди зимы? Марк испуганно, изумленно следил за ними кричащими глазами. Он кричал им глазами: голуби! вы откуда?! вы зачем ко мне?! – а голуби словно не видели его. Порхали над ним, шелестели крыльями, распускали веерами чисто-белые, облачные хвосты. Роняли перья. Курлыкали. Комната наполнилась воздухом и светом. Безумием, трепыханием. Все двигалось, билось и вспыхивало. Потом голуби увидели его; стали слетать на него, садиться, вцеплялись когтями ему в лоб, плечи, пальцы. Били крыльями. Взвеивали белыми, сияющими перьями своими холодный, пронизанный искрами летучего снега воздух. Комната выстывала, а Матвей возился на кухне, зажигал духовку, раскладывал на противне картошку, заливал ее маслом – колдовал. Напевал: проходят дни и годы, и бегут века! Уходят и народы, и нравы их и моды… Голуби обсели Марка, вздрагивали, ворковали. Они так любили его, а он, немея от нежданного зимнего чуда, любил их.
"Но неизменно, вечно… лишь одной любви вино!" – пел отец на кухне, гремя посудой.
– Милые… какие вы… милые…
От голубей исходило тепло. Как прекрасна жизнь! Она шевелится и жжется. И клюет, и целует. И озаряет святой белизной. Это ему знак! О чем? Что он прощен.
Он прожил жизнь неправильно. Но голуби к нему влетели.
Настигли его на последней постели. Воркуют, целуют.
Его душу – для счастья – воруют.
Нежные какие… вот если бы хоть одного – руками взять…
Руки лежали рядом с телом. Их уже нельзя поднять.
Марк заплакал. Голубь, что сидел у него на голове, резко и громко забил крыльями, взвивая ветер.
Кашель родился в глубине, под частоколом ребер, и сотряс больного.
Белая живая метель взвилась, заклубилась. Заметалась по комнате. Голуби грудью ударялись о потолок, о стены, отчаянно искали выхода. Находили. Вылетали в форточку, один за другим.
На свободу.
Матвей вошел в пустую гостиную с тарелкой печеной картошки в сморщенных, как старый сапог, руках. Рядом с картошкой лежал толстый кус копченой осетрины. И кусок хлеба.
– Вот, сыночек… побаловать тебя… это я вчера пенсию получил… я…
Не договорил. Последний голубь, за всеми вслед не улетел, сидел, вцепившись когтями, покрытыми белым ангельским пухом, в плечо Марка под рубахой.
– А кто это тут у нас? А?
Голубь не улетал.
Матвей осторожно подошел с тарелкой к дивану. Голубь смотрел круглым печальным, черным глазом с красным ободком.
– А может, ты с нами, дружочек, картошечки поклюешь? А?
Голубь косо наклонял белую, снежную голову. Марк смотрел из-за голубя на отца.
Из угла рта по его щеке на наволочку тянулась узкая, красной нитью, полоска.
Отец протянул руку и осторожно взял белого голубя под брюшко.
– Ах ты, милый… ну до чего ты милый… и красивый… Ну поешь вот, поешь…
Посадил голубя на край тарелки. Голубь покосился траурным глазом и клюнул хлеб. Потом клюнул картошку. Матвей засмеялся. Его смех был похож на плач.
– Ах ты, какой умница… какой… ест мою стряпню, надо же…
Глаза Марка блестели. Отец погладил голубя по спинке. Марк тихо сказал:
– Простили! Простили!
Отцу послышалось другое.
– Простыли?.. да, как бы мы не простыли… сейчас форточку закрою… ну, дружок, ты лети восвояси… и еще прилетай… сынок мой тебя будет ждать… будет!.. не забывай нас…
Матвей поставил тарелку на грудь Марка, посадил голубя на палец и так понес к распахнутой форточке. Снег летел. Матвей высунул руку с голубем в форточку и подкинул птицу. Голубь радостно растопырил крылья и полетел. Исчез во тьме. Горел фонарь. Летел голубиный снег. Матвей закрыл форточку и поежился.
– Холоду напустил…
Подошел к дивану. Марк закрыл глаза. Лежал как мертвый. По его скулам катились светлые горошины слез.
***
Длинные линии темной воды соединялись и разбегались. Высоко светило белое, перламутровое солнце; оно на горячую пуговицу застегивало небо, а небу хотелось свободы и разгула, такой воли, чтобы только оно одно в мире и царило. Дома стекали в воду каменными кружевами. Вода радужно колыхалась, и разводы нежного цвета вспыхивали, дрожали и исчезали, поглощенные сырой чернотой. Арки и колонны чередовали ритм, и здесь, здесь тоже жили голуби. Они слетали на эти площади, на эти крыши, низвергались ниоткуда, а потом взмывали и терялись в тревожной, щедрой глубине небес.
Они, отец и сын, вместе смотрели альбом, Матвей листал страницы, а Марк видел и не видел, его глаза уже видеть не могли, а он все еще глядел ими, и даже узнавал, и даже – ими – в вечерней тьме – слезно блестя, молился.
Они глядели картинки про Венецию, и Матвей косноязычно и сбивчиво рассказывал, как это далеко и красиво, и как они с женой, с покойной матерью Марка, один раз в жизни, еще до рождения последнего сына, накопили жалких, непонятных денег и поехали смотреть эту неземную красоту. Каналы и дворцы, во дворцах – огромные, во всю стену, картины, и церквях росписи, осыпаются и плачут тусклой краской, штукатуркой, оплывают горячим воском времени. Люди, любуясь на древнюю красоту, опять занимаются кражей: крадут время, присваивают, им кажется, они нырнули с головой в чужое время и уже живут в нем, и знают его, как в нем одевались, как ссорились и любили, что ели на завтрак и обед, как воевали, – эта кража нелепая и неловкая, время своровать нельзя; это единственная из всех ценностей, которую нельзя положить в сундук, в сейф и запереть на ключ. Венеция, кому ты родина? Умирают фрески Тинторетто. Покрываются кракелюрами, как сетью морщин, красотки Тициана. Черные гондолы плывут по сонной воде и уплывают за горизонт сознанья. Его сын видел мир, а если он врет, что видел его весь, обнял, как обнимал отца, ну и пусть. Вранье – тоже воровство. Обманывая здесь и сейчас, ты просто воруешь у времени кусочек будущей правды.