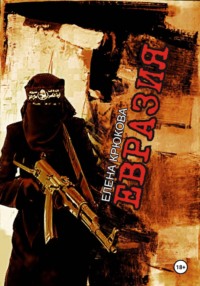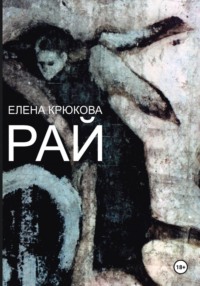полная версия
полная версияХоспис
А где Зверь, пытался оглянуться Марк и не мог, где же Зверь, он что-то невнятное в жизни своей слыхал про него, вроде у него сто копыт, дюжина рогов и семь голов, семь зубастых пастей, на нем кто-то сидит, отсюда уже не рассмотреть, кто, вот это знатное чудовище, оно больше на дьявола похоже, что ни говори. Не было нигде Зверя; ни даже тени его. Молчала ночная комната. Нежно, медленно ходили призраки его сестер за диваном, за шкафами, в плавном танце поднимались и опускались тонкие мертвые руки. Нет! бессмертные! Все дышало бессмертием, и этот стол, укрытый золотой парчой, полный яств, и этот мужик, он жадно доедал людскую пищу, и этот хитрый, донельзя усталый от людей, надменный царь, вот он наконец схватил за горло медный сосуд, поднес ко рту и отхлебнул большой глоток, и рот рукавом утер, и оцарапал губы жесткой парчой, и в комнате густо и пряно запахло пустынным вином.
Тюрбан, дьявол сидит за столом в восточном наряде, значит ли это, что воскрес Восток? И воскрес жирный Мансур, и воскрес тот кудрявый седой ливиец, прилюдно истыканный ножами и штыками? И воскресла бедная Дина? Ведь она от смерти спасла его. А сама умерла. Дьявол, разве не ты подослал ко мне на ночной морозной улице танцующую елку с восточным золотым лицом в темных колючих ветвях? Она станцевала мне посреди улицы мой единственный праздник. Как жаль, что я сам не сплясал вокруг нее! Не пошел одиноким хороводом! Нет, такое мог сделать только Бог! Чей Бог? Какой страны, какого мира?
А я кто, спрашивал он себя, я-то сам какой страны, какого мира?
И вот я умираю. Настал мой час! Ты подумай, говорил он себе немыми губами, я сейчас закрою глаза и больше не открою их никогда, никогда. При чем тут Бог? И дьявол, дьявол тут при чем? Да ни при чем. Не нужны они тебе. Не сможешь ты ничего стоящего крикнуть им. И попросить их, бессильных, ни о чем не сможешь. Значит, напрасны они в земной жизни? Зря их себе выдумали люди? Но чем ближе он придвигался к тому порогу, за которым, он это знал, начнется настоящий переход в иное бытие, а это все только разминка, все только боль в груди и животе, внутри, и снаружи боль от кровавых пролежней, – чем медленнее, но упорней, настойчивей он продвигался вперед по этому последнему живому пути, тем больше он сомневался в своей правоте. Зачем-то же они оба нужны были человеку! И дьявол, и Бог!
Он увидел себя стиснутым каменными стенами. Камень поднимался отвес. Окон не было. Слепые стены. Узкий проход. Он идет, камни цепляют его за голые руки и ноги. Он голый. Нагой. Из бани? Мылся? Или только родился? А разве взрослыми рождаются? За ним, за его спиной, слышались крики. Напирала незримая толпа. Он слышал звон копий о щиты. Шорох одежд. Пахло женскими притираньями, конским потом и потом людским. Вопли вздымались бешеными волнами, опадали. Звенели о мостовую копыта. Взлетал и падал плач. Крики сшибались в воздухе: кричали о нем, про него. Голому, ему надо было идти. Боль легла наискось на плечи, спину. Обожгла. Он ощутил, что несет тяжесть. Со спины на камни сполз, упал деревянный брус. Сильнее зазвенело железо о железо. Мычали быки, ржали кони, хохотали девки, в него камни бросали дети. Он не понял, зачем он здесь шел, узкими каменными вратами; и, главное, куда он придет. Когда далеко, в туманном мареве, закачался пологий голый холм и два креста на нем, он попытался угадать. Не получилось. Он был слишком человеком, и слишком не верил он в земные преданья, чтобы так сразу, с ходу, все угадать.
А ноги все сами угадывали за него, и спина угадывала – она волокла на себе третий крест; и плечи угадывали, ему полосовали их плетьми. А где же штыки и ножи, когда ими будут живую его плоть протыкать? Он понял, зачем ему показали ту азиатскую казнь. Все казни мира похожи! И все смерти мира! Неважно, где ты умираешь – в своей ли постели, на вершине голой горы! Тебе суждено! И – каждому суждено! Это трудно понять, каждому. Но, когда понимаешь, разве легче становится? Становится еще тяжелее.
В плывущем горячем мареве он шел, волоча на себе крест, к этой страшной вершине. Он спрашивал себя: Марк, а ты что, разве и есть тот мужик, что давеча так жадно жрал царскую еду за накрытым парчою столом? – и сам себе отвечал: да, я и есть тот мужик. Просто сняли с меня грязные портки! И стал я самим собой! Голым! Как все мы, когда рождаемся! Но ты же умираешь, твердил он сам себе, все же наоборот, какое рождение, смерть это! И вдруг он сам себе сердито отвечал, даже сам удивился, как гневно: да что ты мелешь такое! это я – рождаюсь! вот увидишь, я рожусь! и трех дней не пройдет, как – рожусь! Мама, крикнул он, мама, хоть бы ты ко мне пришла! Хоть бы ты мне сама сказала: сынок, ты прав! Прав ты! Все так, по-твоему, и будет! Да хоть бы отец явился и сказал.
Отец! Отец!
Он не видел, как из толпы, напиравшей на него сзади, выскочила вперед его мать; она упала на колени и закричала, и закрыла лицо руками. Она услышала его, а он не услышал ее. Спине внезапно стало по-детски весело и легко, его освободили от ужасной ноши, и он видел, как солдаты в медных шлемах врывают в сухую землю массивный столб с чуть косою перекладиной. Пошатываясь под резким ветром, он стоял и глядел на орудия людской казни. Страшная смерть, ну что ж, пусть так! А какая разница! Она вся страшная! Любая!
Схватили, поволокли.
Украли его у жизни.
Взгромоздили вверх, закинули руки за перекладину, привязали грубыми веревками. Должны еще и гвозди вбить, так было на картине сибиряка того несчастного, им убитого, Славки, он же, бедняга, рисовал распятие! Гвозди, чугунные, мощные! И чтобы в ладони вбили! Молоток где?! Где мой, родной ужас?! Тоже украли?!
Он осознал в один миг: он украл жизнь у Бога своего, и вот Ему – ее – возвратили: отняли у него, хитреца, и Богу вернули. А жизнь Бога есть Его смерть, ну что тут непонятного. Умри и возродись! "Я Бог, я воскресну", – утешающе шептал он себе, ни на грош не веря себе.
Нет! Не воскреснет человек, и не расточатся врази его, как бормотал когда-то над его бедной, детской кроваткой его отец. Отец бормотал про Бога. А про человека нет никаких молитв. Яко исчезает дым, не исчезнут! Яко тает воск от лица огня… и не погибнут никакие беси…
Три креста стояли в серой тусклой мгле, три креста. Внезапно налетел ветер и вихрь, пыль поднялась, и косые серые, черные и серебряные струи дождя застучали о сухую землю, в медные шлемы и латы солдат, в размалеванные лица дешевых женщин на ночь. Сквозь серое ничто еле просматривались три креста, близкая ночь закрывала их от любопытных глаз серой мокрой тоской, стеной безумной небесной воды, и хлестал ливень, размывал землю, и изгибались на крестах тела людей: плохие они были или хорошие, теперь это было все равно, дождю так точно все равно, и ветру, и небу, серому и кудрявому, как нищий табачный дым. Дым овевал три креста, дым клубился вокруг закинутых к небу голов и орущих от боли ртов, казнь совершалась, таков был конец этих трех жизней, и Марк орал сам себе: я не вор! Не вор! И людям, что столпились внизу, под крестами, и укрывали руками, досками и жалкой одеждой головы от дождя, кричал: я не вор! Не вор! Я не воровал! Это мной – воровали! Я только был орудием! Я – инструмент! Я просто инструмент! Пила, стамеска! Кто-то держал меня! Кто-то все делал мной! А я – нет! не воровал! я – чист, люди! я просто человек! По ошибке вы меня сюда заволокли, на крест! Здесь должен висеть Бог! Бог! А я – просто человек! Слышите! Человек!
Он орал, ливень хлестал струями ему в рот, он жадно глотал воду, последнюю, земную, скашивал глаза вниз и не видел ничего, кроме серого дождя, он слеп от дождя, зажмуривал глаза, но вода вымывала ему глаза, выталкивала их из орбит, пыталась пробить череп и залить холодом мозг, но он еще думал, еще жарко и страшно мыслил, и это было самое ужасное, как оказалось: умирать и осознавать это. Умирать и мыслить. Умирать и жить.
Отец! Отец! Где ты!
Отец подошел к нему. Держал в руках маленький таз с теплой водой. Он хотел откинуть одеяло, подложить под потное тело сына новый резиновый круг и нежно, медленно обмыть ему гнойные раны пролежней. Он увидел, как изменилось неподвижное лицо сына. Из лица вовне шел чистый, ясный свет. А рот изгибался мучительно. Рот стал страданием, а все лицо – счастьем. Матвей застыл с тазом в руках. Он хотел поставить таз на пол и не мог. Свет все тек из лица сына, вытекал наружу и обтекал всего Матвея, его руки, лицо и ноги. Матвей прерывисто, как плачущий ребенок, вздохнул. Согнулся и все-таки беззвучно, осторожно поставил таз на пол.
Когда он разогнулся, сын стал другим.
Свет исчез.
На лицо наползла тьма.
Изогнулись страдальчески брови. Мерцали и бились мышцы. Человек боролся с тьмой. С самим собой? С дьяволом? С Богом? Матвей отступил от ложа, видя последнюю борьбу. Отвернулся. Он не хотел стать свидетелем страшного таинства.
Он просто сел на табурет рядом с сыном, стараясь не глядеть на него, и взял в свою руку его руку. Так, рука в руке, они ходили очень давно. Когда сын только научился ходить.
***
Однажды Матвей так устал, что заснул, сидя в кресле, с половником в руках. Суп выкипел, кастрюля раскалялась и воняла. Матвей проснулся оттого, что слабые пальцы разжались, половник упал и загрохотал, и покатился. Матвей разлепил веки и часто, беспомощно моргал. Тер глаза кулаком, потом послюнявил палец и еще потер. Туманилось зренье и подергивалось ледком, как черная грязная лужа. Он унюхал горелое, тяжело встал, пошаркал на кухню. Ахал, выключал огонь, совал кастрюлю под холодную струю; она шипела, как змея. Сквозь кухонный шум до него донесся слабый крик. Сын звал его.
Матвей с грохотом и звоном швырнул кастрюлю в раковину. Вкатился в гостиную, рухнул на диван рядом с Марком.
– Сынок… сынок…
Шаталась у изголовья капельница. По лицу Марка ходили волны ужаса.
– Батя… Бать… А знаешь… я ведь и тогда… раньше… ну… давно…
– Что?..
– О своей смерти… думал…
Матвей не удивился этим словам. Он сейчас учился ничему не удивляться. Все, что делал и говорил Марк, все было последним, а значит, драгоценным.
– И что?..
– И то… Представлял себя… ну вот я грешник такой… жуткий… пробы негде ставить… и я умираю… а смерть, это же свято… Вот я мучусь на твоих глазах, батя… я муками этими… может… все искупил… а?.. нет?..
Матвей едва нашел в себе силы кивнуть. Марк следил за медленным, смущенным движеньем его старой лысой головы.
– Да…
Марк прерывисто вздохнул: раз, другой, третий. Задержал дыхание. Матвей думал отрешенно: сейчас будет кашлять, нужна тряпка, чтобы в нее кашлял, и сразу тряпкой вытирать кровь. Поднес тряпку ко рту сына. Марк покосился на тряпку. Зажмурился. Кашлял зло и стыдливо, с плотно сжатым ртом. Кровь все равно упрямо вытекла из угла рта и потекла по морщине вдоль подбородка. Матвей вытирал кровь и плакал. Громко, не стесняясь, в голос.
– Кашляй громче! Не стесняйся… вот в тряпку, я держу…
Отощалое тело Марка тряс, выворачивал кашель. Он отдышался и прохрипел:
– Жизнь моя… батя… это было одно воровство голимое… я предавал… доносил… продавал… уползал, чтоб не поймали… бил, убивал… я так жил… так вот и жил… я…
Матвей слушал. Затаил дыхание. Мял в руках омоченную кровью тряпку.
– Я считал… что только так… и надо жить…
Молчал Матвей. Тряпка жгла руки.
– И знаешь, бать, кем я был-то?.. ну, на самом-то деле?..
– Нет…
– Я был – тенью… тень я, и больше ничего…
– Какая… тень?..
Матвей растерялся. Сильнее мял, почти рвал пальцами кровавую тряпку. На губах Марка показалась красная пена. Он слизнул ее, как дети слизывают с губ варенье.
– Все такая… – Дышал громко, редко. – Я грабил… и становился тенью того, кого ограбил. Я… ему… им… подражал. Я сам… не сознавал этого… тогда. Сейчас… знаю… Подражал, чтобы… стать, как они… стать – ими… Почему так?.. Да я просто, бать… не мог… в мире… один…
Матвей бессильно, быстро кивал. Так голубь клюет зерно, уличный хлеб, крошки в грязи под людскими ногами.
– Так делает любой вор… вор, чтобы его не поймали… должен стать… тенью… обокраденного… тенью – жертвы…
Матвей прикрыл глаза. Под веками бились красные огни.
– И чем больше я становился тенью… как любой вор… тем одиночее становился… я сам… Я не хотел быть один… я хотел не быть – один… а оставался – один… без никого… какая разница, какой язык… какой мед на языке… вино… вот я кровь свою глотаю… и без разницы… она еще лучше вина… потому что она – моя…
Матвей, с закрытыми глазами, медленно пополз рукой по одеялу, нашел холодную, ледяную, худую, кожа да кости, руку Марка и нежно, как руку ребенка, сжал ее.
– Я стоял во тьме… один… оглянусь: никого рядом… ни души… хоть вопи… надорвись… не услышат… и я стою один и думаю: покончу с воровством!.. я больше не буду… я… очищусь… прощенья попрошу… у кого?.. да знал я, знал, у кого… только все боялся Его по имени назвать… боялся, не хотел… стыдился… назову – а на меня все пальцем покажут… загогочут, освищут… Да… знаешь, бать… я честно хотел с воровством – завязать… ну, как курильщик – с куревом… пьяница с бутылкой… завязать и бросить… но не мог… не смог… Я уже не мог без воровства… Я… батя, был вор настоящий… такие – умирают ворами… вот и я сейчас – вором умираю… и что, разве это хорошо?.. а?.. а-а-а…
Часы пробили. Матвей вздрогнул. И, пока часы били, он дрожал, мелко и страшно, зубы его стучали.
– Вот картины у Славки слямзил… Славку – убил… разве хорошо?.. а прощенья-то у кого просить?.. У… Него?.. Не мог… И – не могу… Народ на его картинах… на моих… все бежит и бежит куда-то… бежит и бежит… и звезды красные горят… изнутри светятся кровью… и корабль большой тонет в море… ночь, окна пылают, люстры разбиваются… звенит хрусталь… народ орет, садится в шлюпки… головы людей в черной воде… она, бать, такая маслянистая… ледяная… такие картины… я сам так бы не смог… я их украл… и радовался этому… Народ… я его не понимал… и не любил… Я мой народ, бать, никогда не любил…
Матвей сильней, судорожней сжал, сцепил пальцами руку Марка.
– Сынок!.. брось… ты же сам – народ… ты и есть – народ…
Марк дышал все чаще. Ловил воздух губами, как струю воды.
– Я – народ?..
– Да… да… ты – народ… и я – народ… мы оба – народ… и все, все мы – народ…
Матвей разлепил глаза, налитые слезами всклень, и сквозь линзу слез видел, как Марк силится улыбнуться.
– Батя… вот я возвращался на родину… и в поезде ехал, и пешком шел… а мимо меня шел народ… я иду, а он – мимо меня… ну, видать, разные мы с ним народы… я одним путем иду… он – другим… И он, знаешь, так идет… ну, сильно так, что ли, весело… я отвык так ходить… и в сторону глядит… куда мне уже не поглядеть… я отвык туда глядеть, куда он глядит… так радостно, так… глаза, короче, у него светятся, у народа-то… так неудержимо идет… хорошо движется… будто ветер его в спину гонит… а я через силу иду… как против ветра… И я тогда подумал: а зачем я против ветра?… против народа?.. дай-ка я с ним пойду… И я – пошел… пошел, поехал туда, куда он шел и ехал… двигался вместе с ним… И, когда я с ним пошел… в одну сторону мы пошли… бать, мне легче стало… я будто выдохнул… люди идут, смеются, и я иду… плачут, и я плачу… на перронах, перед вагонами, обнимаются – и я с приблудной старушонкой неизвестной взял да и обнялся… а она испугалась, стала вырываться… хулиган, кричит, брось меня, пусти меня… на помощь позову!.. ну, я выпустил, конечно, дуру… не поняла она ничего… Я видел его весь… мой народ… чувствовал – весь… и я ему шептал: народ, ты меня возьми и укради… я – твой ломоть… кусок твой в голодуху… давай я теперь буду жертвой… скради меня!.. мне не жалко… разломай на части… голубям скорми… подошвами раздави!.. да все равно мне!.. потому что я теперь – счастлив… да, счастлив… бать, ты слышишь или нет… счастлив… да…
Матвей шептал: слышу… слышу… да… – но Марк не слышал его. Кровь вытекла сразу из обоих углов его рта и щедро лилась на подушку. Матвей прижал ладонью тряпку к его рту. Слезы Матвея крупно, жадно падали на бледное и жалкое, еще живое лицо сына.
***
Пошевелить губами. Жалость, соль стоит в глазах, вода застоялась в бочке, надо вылить. Будильник, надо вставать. Не хочу. Не хочешь? Поднимем пинками. Рассвет, крики за окном, голоса людей, их нельзя слышать, невозможно, надо закрыть уши ладонями, руки не шевелятся, губы тоже. А надо петь. Встать, выпрямить хребет и спеть. Что пела ему та певица? Отец зря ее пригласил. Красное платье, красная воля. Знамя, его давно забыли. В него завернули кастрюлю с кашей. Чтобы не остыла. Скоро остыну. Зачем? Зачем я был? Не знаю. Никто не знает. Песня о мире! Старая песня. Напрасная песня. Все равно мира не будет. Врешь. Мир будет, а тебя не будет. Разломишься, как льдина. Поплывешь. Но знать не будешь, куда. Уже все равно. Женский голос. Кто поет? Дина? Дина, помню тебя. Я всех помню. А зачем мне теперь память? Ни к чему она. Надо спеть! Голос – запомнят. Кто? Кому я нужен? Ну пусть хоть отец запомнит. Прохрипеть! Миру мир! Все вперед! Труба зовет! Нет воров! Нет подлецов! Все равны! Все ангелы! Тысяча лиц! Гляжу в лица. Они плывут мимо. Узнаю себя. Круглые, живые зеркала. Смотрюсь в них. Это все я. Я, я, я. Нет сил разбить. Поднять камень и кинуть. Музыка! Песня! Это моя песня. Это я пою. А может, та баба? В красном платье? Черные у нее волосы, льются как нефть. А та моя паненка, эшче Польска не згинела, пела? Когда-нибудь, хоть песню одну? Забыл. Ее помню. Песню – забыл. Ада, девчонка из ада, а ты пела? Чёрт бы драл! Ада, я бы тебя сейчас украл. Чтобы ты не сдохла на дне железной, каменной лохани. Крышкой стальной тебя давно накрыли и, курицу, сварили. И бульон выхлебали. И косточки обсосали. Зря я тебя спас. Значит, я не только губил. Но и спасал. Песня! Хочу спеть песню! Вот об этом обо всем. О мире. Я видел его. Знал его всего. Как голую бабу в постели. Катька, Катерина, разрисована картина. Богатая подстилка. Я золотишко у тебя украл. Ты плакала. Ты меня любила. Нет. Врешь. Ты со мной спала. А кто меня любил? А кого – я – любил?
Никого?
Это плохо. Уйти насовсем. И без любви. Зачем тебе там-то она? Там же памяти нет. Ничего нет. Тебя, главное, нет. Так зачем эта по любви тоска? По миру? Мир! Я тебя обошел. Любил тебя. Нет. Не тебя. Свой ход по тебе я любил. А на тебя мне было плевать. Голос вдали. Кто поет? Баба? Нет. Ребенок. Мальчишка или девчонка. Пищит. Будто плачет. Или далеко, на том свете, смеется. Толпа, куча народу, и среди людей ходит девчонка. Протягивает шапку. Подайте! Знаю девчонку. Имени не знаю! А ее – помню! Помню. Она смотрит прямо в душу. Все знает обо мне. Все. И про нашу землю все знает. И про народ. Как его обманули. Сам себя он обманул! Насквозь время шагами меряет. Еле тащится. А девчонка эта поет. Танцует. И так громко хохочет! Я на свалке ее на руках держал. Колыбельную ей пел. Я всю жизнь крал у народа. В конце концов сам себя у народа украл. Не знал, что он такое. Вокруг меня всю жизнь толклись и шумели люди. Много людей. Они были отдельно. Я отдельно. Я сам по себе. Я любил свободу. Вор я, и свободен. Уходил, сжигал мосты. А теперь? Валяюсь. Броситься к народу: я твой! Я ваш, люди! А людей нет. Никого. Только отец. Один. Нагибается надо мной. Ждет, когда я умру. Народ! Эй, народ! Разве ты есть?! Это я есть, я, еще есть, а тебя нет! Ты – мимо. Мимо! Сволочь ты! Дрянь! Эй, остановись хоть кто! Зачем вы гоните меня?! Да вы не видите меня! Вы глядите сквозь меня! Но я же еще не умер! Нет! Эй! Стой! Я с вами хочу! Люди!
Девчонка поет. Она все еще поет. Голос у нее тонкий, как жизнь.
***
Матвей все спрашивал себя: когда? когда это случится? и как? Он все садился рядом с сыном на диван, пружины скрипели и звенели, он слепо искал иглой капельницы, принесенной из больницы, синюю вену на локтевом сгибе, но не было вены, ссохлась, а может, как сахар в чае, бессильно растаяла в усыхающей плоти, и он напрасно тыкал острым железом в мертвенно-белую, с лиловыми пятнами, кожу: попасть не мог, резиновый жгут соскакивал, он не мог его удержать.
"Ах, старый я, старый сам. Немощный уже. Какой я врач! Я вор. Вор я, и сам у себя уже свою жизнь краду! Остатки жизнешки! Как мышь… корку… на кухне…"
Сын храпел и хрипел, а потом опять просыпался и затихал, и Матвей вздрагивал от тишины. В тишине снова раздавался кашель, становился громче, и Матвей подходил и вытирал сыну угол рта носовым платком – горлом шла кровь, и иной раз обильно, платка было мало, отец подкладывал сыну под щеку полотенце. Сын шарил руками в воздухе, щипал одеяло, он воровал последние минуты, крал последние часы, а они выскальзывали у него из рук, укатывались под диван, закатывались между половиц, убегали, спасались. Они спасались от вора, что молился: ну дай еще сворую! ну напоследок! ну что тебе стоит!
Кто был этот "ты", кому молча кричал это Марк? Он сам не знал.
Он не думал про Бога.
Он был очень занят: в последний раз воровал жизнь, залезал к ней в раззявленный, незастегнутый карман.
Матвей понимал, что происходит. Он хотел помочь сыну.
Он помогал ему жизнь воровать.
Они работали на пару: вор и вор.
И, помогая сыну это делать, засучив рукава старой рубахи, Матвей думал с ужасом и восторгом: вот и сбылись мои мечты, вот я и ворую, и могу это, и умею, и делаю блестяще, с проворством и наслаждением, – и, подтыкая под сына простыню, обмывая и смазывая ему кровавые пролежни, он с гордостью повторял и себе, и сыну: смотри, как мы с тобой это сделали ловко, мы виртуозы, какой большой, лакомый кусок жизни мы сегодня украли, какой завидный куш отхватили, какие мы сегодня с тобой богачи, как здорово, удачно поживились, – и, гордясь добычей, приносил из кухни и ставил на грудь Марка тарелку с омлетом, такой мягкой, специально для больного, едой, и жевать-то ничего не надо, только глотай, – Марк голову не отворачивал, а губы не разжимал, отец напрасно тыкал ему ложкой в рот, даже пальцем губу ему оттягивал, да были сжаты зубы намертво, и плакал Матвей над сыном с ложкой в руках, старинной мельхиоровой, еще дедовской, с вензелями и царскими коронами, дед Матвея писал за конторкой свои бесконечные листочки, а потом отрывался от чернильницы и этой ложкой ел суп или кашу, – ну давай, миленький, сыночек мой, своруем у смерти еще шматок жизни! давай! еще! изловчимся! нас не увидят! не заметят! за руку нас не схватят! – и, обливая неподвижное лицо Марка слезами, опять совал ему ложку в рот, и, о чудо, Марк рот открывал и глотал невесомый омлет, пищу ангелов небесных, и плакал Матвей уже от счастья: ай да чудный вор я! ай да сукин сын! ай да воры, сынок, нынче мы с тобой! – но падала молчащая лысая голова набок, щекой на подушку, и подкатывала рвота из-под ребер, и сжимал Матвей кулаки: нет, не удалось, не обманули. Не своровали.
Схватили нас за руку. Теперь куда? На суд? Казнят?
А где же наши адвокаты?
Мы сами себе адвокаты. И сами себе прокуроры.
Но почему, почему все так?
Плохие мы, сынок, видать, воры. Ловкость потеряли. Живость не та.
Нас обскачут: те, кто помоложе. Дай срок. Они уже идут.
***
Марку казалось: он узник. Он в тюрьме.
Стены этой тюрьмы сложены из прошлого и будущего.
А он сидит в одиночной камере: в прогале фальшивого, картонного настоящего.
Его пытаются накормить – он не ест. Напоить пытаются – не пьет. Чьи-то далекие голоса пытаются вызвать его на откровенность. Он не хочет ни перед кем обнажать душу.
Мир, по которому он шел живыми ногами, оказался до обидного маленьким: всего-то одиночка, и матрац на полу, и решетка на высоком, под потолком, окошке. Все бренно! Все бессмысленно. Все есть гниение, разложение; танцы скелетов. А почва, чтобы можно было ступить всей ногой, крепкая, твердая, – из-под ног уплывает. А маяк не горит, не пылает. Не мигает зазывно. Твоя почва – старые шелка, побитый молью бархат! Твоя келья – домовина, и нечего этого стыдиться. А огонь твой – у тебя в ладонях, это твоя старая, недокуренная сигарета, слишком жалок твой одинокий огонь, слишком слаб. Да ты, дружок, слаб! А разве ты силен? Разве ты, самим собой обкручивая белый свет, силу свою – не растерял?
Маяк, нет, он просто маяк. Мигает в ночи. Кругом ночь. Придет смотритель. Он следит за светом. Это его отец. Следит, чтобы маяк жил. Еще жил. Но однажды угаснет огонь. Так бывает.
Что же главное в этой жизни? Что?
Неужели сама жизнь?
Как это скучно. Как грустно!
Он думал, главное что-то другое.
Однажды, когда он еще мог говорить, его отец нагнулся к нему, и Марк, поймав глазами его глаза, слабо улыбнулся и попросил:
– Наклонись.
Отец наклонился.
Марк глубоко вздохнул.
Отец ждал.
Марк сосредоточился и выпустил шепот наружу, как голубя из рук.
Шепот вылетел и порхал над их головами.
– Отец… Я тут наговорил тебе. Все мои странствия…
Отец ждал. Голубь порхал и искал выхода: открытого в холод и синь окна.
– Все скитания… все… это только мои… сны.