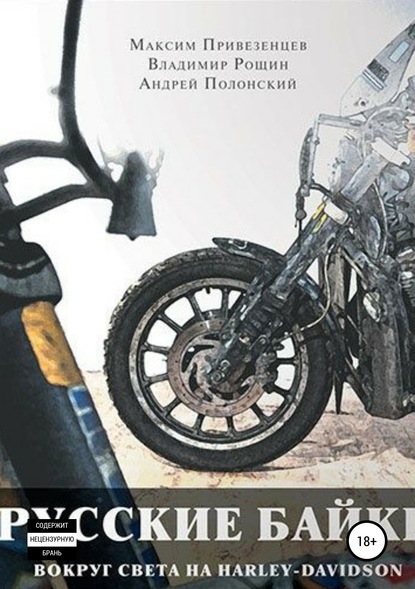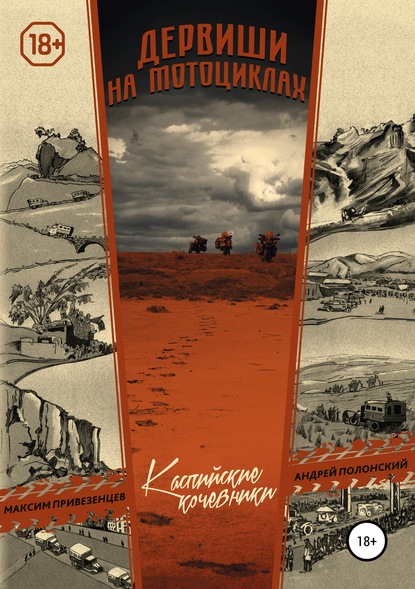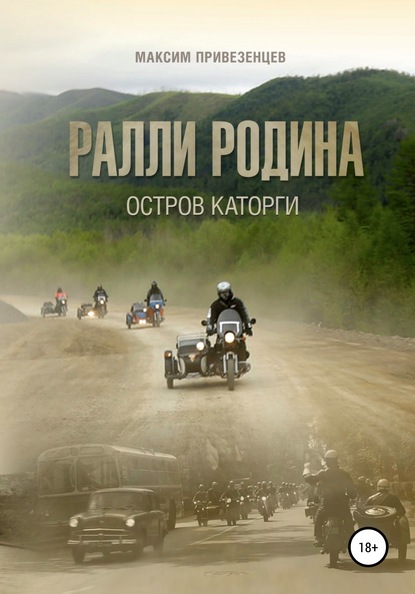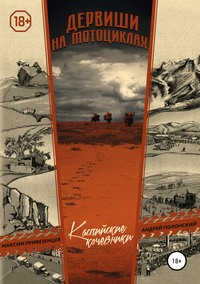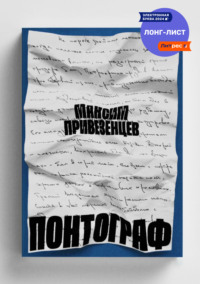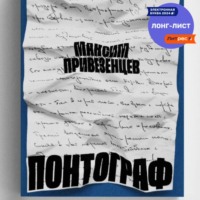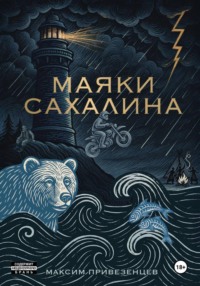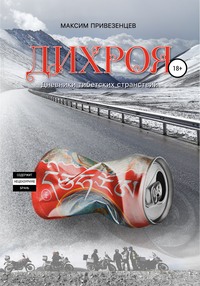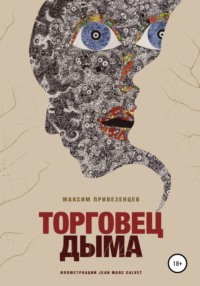полная версия
полная версияШотландский ветер Лермонтова
После службы мы отправились на второй этаж, в главный зал. Вообще столовая, как рассказала Женя, находилась внизу, рядом с кухней, но для нас решили накрыть наверху, чтобы показать, как нам рады.
«И дались им мы, обычные путешественники? – думал я, с интересом озираясь по сторонам. – Поразительное гостеприимство…»
Когда поднимались, я обратил внимание на огромное – метров пять в длину и столько же в ширину – полотно, висевшее на стене лестничного марша. На картине был изображен весь род Триплэйдов, причем, что любопытно, не в форме генеалогического древа, а как групповое фото огромной семьи.
– Какая большая, – сказал я Жене.
– Это не просто так, – с улыбкой произнесла художница. – Любой гость может оказаться на этом холсте, если сделает взнос на поддержку замка. Кстати, Елена спрашивала, стоит ли вам это предлагать.
– И что ты ответила? – полюбопытствовал я.
– Что вам это не интересно.
– Вот как?
– А что, ты бы хотел висеть на одной картине с малознакомыми людьми? – выгнув бровь, спросила Женя.
– О, нет. Не хотел бы. Но откуда ты это знала?
– Вадик много про тебя рассказывал. – Она мотнула головой в сторону Чижа. – Я сделала выводы.
Хмыкнув, я бросил еще один взгляд на полотно и продолжил восхождение на второй этаж. Когда поднялся, застал удивительную картину – все дети Триплэйдов, от мала до велика, помогали домоправительнице, приятной даме лет сорока, накрывать на стол.
– Тут четкая рассадка, – тихо сказала Женя, заметив, что Чиж, щурясь, высматривает, куда же приземлиться. – Рассаживают пары, чтобы они не шептались между собой, а говорили с другими гостями.
– Но мы-то не пара, – буркнул Вадим.
– Зато мы брат с сестрой, которые видятся через два года на третий, – хмыкнула Женя. – В общем, я сижу с Эндрю, Максим – по правую руку от Елены, а ты, Вадик, вон на том стуле, среди старших детей.
– Ох, уж мне эти правила этикета… – проворчал Чиж, но возмущаться не стал – покорно побрел на свое место.
Женя отправилась к Эндрю, а я – к Елене, которая с любовью наблюдала за тем, как ее дети накрывают на стол. Их семья казалась невероятно дружной и счастливой.
Заметив, что я усаживаюсь рядом, Елена повернулась ко мне и спросила:
– Как вам Шотландия? Женя сказала, вы здесь впервые?
– Да, это так, – кивнул я. – Мне все нравится. Природа… Вадим много рассказывал мне про здешние пейзажи, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…
– Ну это да, да, – закивала Елена.
Наконец с сервировкой было покончено, и мы приступили к долгожданной трапезе. Еда была простой – овощной салат, картофельное и тыквенное пюре и жареная курица – но очень вкусной. Пили красное вино и воду, которая оказалась на удивление вкусной; мы с Чижом вручили хозяевам водку, привезенную из России, но открывать ее Эндрю не стал – отложили до более подходящих времен.
Разговор за столом можно было описать всего одним словом «дежурный». Говорили обо всем понемногу – о России, о Лермонтове, об Алябьевых – при этом деликатно не касаясь политических тем. Меня просили немного рассказать о былых путешествиях, и я вкратце поведал о каждом из них. Атмосфера была настолько дружелюбной, словно мы собирались здесь уже не впервые, словно подобные вечерние посиделки – наша давняя традиция. На минуту я даже забыл, что нахожусь в старинном замке – до того по-простому себя с нами вел его хозяин и все семейство Триплэйдов.
Отдельно коснулись Новогоднего маскарада, на котором Лермонтов зачитывал свои мадригалы.
– Меня всегда удивляло, что многие так и не поняли, кем был тот остроумный астролог, – сказала Елена, с улыбкой посмотрев на меня. – Неужели по манерам в речи и в жестах нельзя было понять, что перед ними – Лермонтов?
– Тоже думал об этом, – ответил я. – Но, с другой стороны, почему бы и нет? Если людей было много, и все в масках, и шум, и бал… В суете могли и не узнать.
– Согласна, – кивнула Елена. – Хотя сами стихи Лермонтова выделялись, конечно. Я читала других, кто был на том маскараде… небо и земля…
– Думаю, причины все те же – шум, гам, бал, всеобщая суета. В такой обстановке многое звучит иначе.
– Ну да, наверное, вы правы…
Еще один интересный факт – все, что было положено в тарелки и налито в бокалы, оказалось съедено и выпито без остатка. То же самое произошло и с десертом. В конце вечера перед каждым сидящим за столом стояли чистейшие, будто нетронутые, тарелки: никогда прежде я не видел столь бережного и уважительного отношения к еде. Эндрю поблагодарил всех за трапезу и пригласил меня с Чижом в библиотеку для беседы.
– Сочтем за честь, – дождавшись кивка от Вадима, ответил я за двоих. – Тем более что я хотел угостить вас сигарой моей марки. Если вы, конечно, не возражаете.
– Не возражаю, – медленно кивнул лорд Триплэйд. – Хотя, насколько я знаю, хорошие сигары производят только на Кубе и в Турции…
Такой ответ меня немного удивил. Приличных сигар в Турции не выпускают уже лет сто, но, видимо, кто-то до сих пор подпитывает мифы колониальных времен.
– Тем интересней, что вы скажете о моих, – тактично произнес я.
– Согласен.
Оставив Женю и Елену с детьми, мы вслед за лордом отправились в библиотеку, которая находилась на первом этаже. Это было огромное помещение с высокими, под потолок, стеллажами, заставленными пухлыми томами. Мы расположились в креслах, окружавших овальный журнальный столик. Эндрю налил хорошего виски из бара, я достал сигары. Мы закурили, и к запаху бабушкиного сундука, который царил в библиотеке, добавился аромат плотного сигарного дыма. Я посмотрел на Эндрю.
– Сигары ваши и вправду хороши, – признал он. – Земляные тона, легкое перечное послевкусие и где-то фоном – цветочные ноты… Да, определенно, это очень неплохая сигара.
– Мне лестно это слышать.
Триплэйд затянулся, выпустил струю дыма вверх и, провожая его задумчивым взглядом, спросил:
– Я не стал поднимать этот вопрос за столом, но… скажи, Максим: действительно ли русские всецело поддерживают политику Путина, или это все выдумки СМИ?
– Сказать по правде, я политику не обсуждаю, поскольку сам политиком не являюсь, а гражданское население в нашей стране, по сути, из политического процесса исключено. Иными словами, тратить время на то, что тебя не касается, мне кажется непозволительной роскошью.
– То есть ты не согласен с высказыванием Черчилля: «Если вы не занимаетесь политикой, то очень скоро политика займется вами»? – прищурившись, спросил лорд.
– Я даже не уверен, что оно действительно принадлежит Черчиллю, – мягко улыбнулся я. – И, вдобавок, что-то подсказывает мне, что фразу переврали.
– Почему ты так решил?
– Потому что политика занимается всеми, так или иначе, и никаких дополнительных условий для этого не нужно. Именно поэтому мне куда ближе фраза Шарля де Монталамбера: «Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами». Полагаю, что-то подобное имел в виду и Черчилль, но его слова неверно донесли.
Улыбка тронула губы Эндрю.
– Да уж… – пробормотал он. – Политика – та еще клоака…
– Позволите мне тоже задать вам несколько вопросов? – спросил я, наблюдая за тем, как лорд берет свой стаканчик с виски.
– Давай, конечно! – легко согласился Эндрю. – О чем бы ты хотел меня спросить?
– Мне интересно, что вы думаете о Лермонтове.
– Ну, здесь я, наверное, буду банален: он – гений. Между ним и обычными, «нормальными», людьми – пропасть.
– А в чем вот это отличие заключается, между «нормальным» человеком и Лермонтовым? – вставил Чиж.
– Нормальный человек, живя в своем мире, вполне осознает наличие бесчисленности других миров, но сводит все к двумерности пространства: есть его мир – и все остальные. Отсюда странная уверенность, что любое действие или высказанная мысль всегда имеет второй смысл. Нормальность – это «знание» двусмысленности существования… но невозможность понять, что смыслов может быть и три, и пять, и ноль. Пространство Лермонтова явно было куда объемней.
– Как думаете, это позволяло Лермонтову быть свободным? – спросил я.
– Если ты понимаешь под свободой некое «райское состояние», в котором не хочется ничего менять, потому что оно и так идеально, то нет. Он все время находился в поиске, но просто однажды решил, что окружающим об этом знать не следует, и закрылся. Внутри тех стен, которыми Лермонтов отгородился, он был единоличным хозяином, и это, с одной стороны, было крайне удобно… с другой, порой ему становилось невыносимо скучно, и тогда он выбирался в мир, чтобы развлечься… и нередко от этого страдал – когда натыкался на людское непонимание.
– А в чем, по-вашему, главная причина бегства Лермонтова от общества?
– Полагаю, он понял, что любые привязанности – дружба, любовь к близким и женщинам – лишь отвлекают его от постижения мира. Все эти отождествления – национальные, классовые, религиозные, партийные, прочие… Они нужны в первую очередь идиотам, которые не имеют других точек опоры, которые привязываются этими нитями к окружающей действительности и потом до самой смерти болтаются на них, как марионетки.
– Выходит, Лермонтов полагал, что у него было некое сакральное знание о людях, в частности – о российском светском обществе, о Боге, и он постоянно стремился расширить это знание?
– Не совсем так. Безусловно, Лермонтов, как и все русские, был уверен, что мир пребывает во зле, а высший бог отправляет вам посланцев, чтобы дать знание, как освободиться от тирана. При этом абсолютное большинство русских использует любую возможность, чтобы только не знать способов это сделать. И это стремление в вас сильнее даже, чем стремление ничего не делать… до тех пор пока из-за этого бездействия вы в результате действий власть имущих не оказываетесь у края пропасти и не видите, как туда сваливаются ваши соотечественники. Тут у вас в голове наконец-то что-то щелкает, и вы реагируете на происходящее революцией… а потом все снова возвращается на круги своя, все повторяется снова и снова… Лермонтов же, напротив, пытался высшее знание постичь, и это вело его к личной революции против общества. Стать настоящим бунтарем он просто не успел – восемь вызовов на дуэль много даже для русской рулетки – но, проживи Михаил Юрьевич еще хотя бы лет двадцать, мы бы узрели его во всей красе… Хотя сомневаюсь, что это помогло бы что-то кардинально изменить. Слишком глубоко в русских сидит вера в то, что к упадку приводит лишь неудачное стечение обстоятельств и что перевороты и бунты – лучший способ все исправить. Но у нас в Шотландии не было революций не благодаря удаче, мы их просто не устраивали. И в этом нет никакого везения. Мы находили компромиссы, а не ломали все до основания, передавая власть из рук обнаглевших негодяев в руки негодяев голодных.
– В таком случае вдвойне интересно, мог ли Лермонтов кардинально изменить свою жизнь, окажись он в Шотландии – спокойной, миролюбивой, безмятежной?
– Увы, изменить свои правила жизни практически невозможно. Особенно сложно, если в зрелом возрасте переходишь с одного языка на другой. Самое страшное… – Лорд сделал солидный глоток виски. – Самое страшное, что, меняя правила в середине жизни, Лермонтов мог оказаться в конце в чужой или, точней, в начале своей собственной, и следующие несколько лет попросту потерял бы на эту внутреннюю перестройку.
– То есть Лермонтову совершенно нельзя было помочь в его фатализме?
– Безусловно, нет. Лермонтов, как и чуть раньше Пушкин, следовал своим правилам, подспудно стремясь к смерти. И, что самое интересное, в отличие от Александра Сергеевича, Лермонтов эти правила даже любил.
Я медленно кивнул. Чем больше я читал про Михаила Юрьевича, чем больше узнавал о нем, тем сильней укреплялся в мысли, что всю сознательную жизнь он стремился к смерти. Возможно, Лермонтов и не хотел лишаться жизни, но, определенно, ему нравилось прогуливаться на самой границе бытия и небытия.
– А в чем, по-вашему, секрет эмоционального воздействия наследия Лермонтова?
– Думаю, в первую очередь – в сюжетах. По Аристотелю, трагедия всегда о том, какие страшные вещи случаются с теми, кто лучше или хуже нас, но хуже всего от осознания, что все это могло бы случиться с каждым. Событие, в общем и целом, важнее действующего лица, хотя многие заурядные авторы попросту забывают, что нужно наделить героев такими личностными характеристиками, чтобы они влекли к себе события, формируя тем самым сюжет. Лермонтову это прекрасно удавалось, как немногим. Его герои всегда притягивали к себе события, словно магнит. При этом читатель сопереживал им, поскольку чувствовал их эмоции и мог представить себя на их месте.
– Наверное, в этом и разница между авторами, вроде меня, и гениями, вроде Лермонтова: для меня литература – это больше ремесло, чем искрометное вдохновение…
– Да, вероятно, для выживания в такой ипостаси природа не наделила вас талантом. Талант стремится вынести себя для другого, а значит, стать чужим себе самому. А это лежит за областью сознания. Такому не научишь в университете, это либо есть, либо нет… Хотя в современных университетах Великобритании, к сожалению, уже не учат и более примитивным вещам…
Он устало вздохнул и, положил сигару в пепельницу, сказал:
– Ужасная метаморфоза. В позапрошлом веке университеты были, как мой замок – настоящей твердыней, с четкой иерархией, с дисциплиной… Сейчас же университеты – это шапито: есть стены и престижное, пафосное название, но что внутри? Свадьбы, встречи выпускников… Университеты сдаются, как ночные клубы, чтобы оплатить расходы на содержание.
Мне сразу вспомнился современный Михаил Юрьевич, который спасал усадьбу Середниково таким же печальным способом.
– Раньше это были храмы науки, – продолжал Эндрю, – и студиозы жили без удобств в крошечных кельях; сейчас происходящее напоминает какое-то шоу, дешевую театральную постановку. Те же балы лермонтовских времен, только в современной обертке. И откуда взяться новым самородкам?.. Впрочем, наверное, это волнует только таких стариков, как я. Молодые любят шоу… а мы живем прошлым. Тем, что было, но чего уже нет. А молодым неважно, что случилось вчера, их волнует только завтра, и в этом их сила.
– Сила? По мне, так это, напротив, слабость.
– Отчего же?
– Знание истории позволяет определить будущее.
– Это вздор, Максим. Прошлое ментально и актуализируется в конкретной голове в конкретный момент.
– Довольно странно слышать подобное от человека, у которого такая обширная библиотека. Я обратил внимание, что у вас в библиотеке есть полное собрание «Иллюстрированных лондонских новостей», 100 лет в 161 томе. История вашего замка. Множество других книг, посвященных самым разным эпохам. Мало кто обладает подобным «хранилищем» истории. Разве вы не ощущаете себя ее уникальным собственником?
– История ничья, мой друг, – с улыбкой сказал Эндрю. – Это она – мой собственник, а не я ее. Перефразируя Шарля де Монталамбера, вы можете не заниматься историей, она все равно занимается вами.
Лорд ненадолго задумался, а потом продолжил:
– Понимаешь, настоящая история и то, что написано на страницах всех этих книг, может разительно отличаться. Количество правды зависит только от того, насколько она, эта правда, была выгодна авторам. Довольно глупо ориентироваться на ложь при планировании будущего, не находишь? При этом я считаю правду атавизмом. Она не нужна для жизни. Правда – удел безумцев. Но о ней почему-то вспоминают в момент смерти.
Чиж украдкой зевнул. Это, судя по всему, не укрылось от лорда.
– Ладно. Вы с дороги, я тоже немного подустал, – сказал Эндрю. – Пойдемте, я провожу вас в гостевой домик.
Он допил виски, поставил пустой стакан на стол и встал; мы с Чижом последовали его примеру. Пока брели по коридору обратно к выходу, я обдумывал слова лорда. Удивительно, сколь многих тем мы коснулись за столь короткий срок. Учитывая нашу усталость, я решил, что сейчас ни к каким дельным выводам все равно не приду, и потому не стал себя мучить. Уже прощаясь с Эндрю, я сказал:
– Спасибо. Это была крайне интересная беседа. Я, признаться, даже не думал, что первый же вечер в Шотландии подарит мне такого чудесного собеседника.
– Не за что, Максим, – ответил Эндрю. – Главное – не бросай своих поисков. Вечно пытаться заглушить отчаянную жажду познания куда лучше, чем долгие годы плыть по течению. И не забывай: закостеневший мозг уже не оживишь.
– Почти как с сигарой, – заметил я. – Если она высохла, из нее ушел вкус. Увлажнить ее можно, но вернуть вкус уже не получится…
Эндрю пожелал нам доброй ночи и ушел, а мы стали готовиться ко сну. Гостевой домик явно построили совсем недавно, потому что ничего общего с замком он не имел – ни тебе картин на окнах, ни гобеленов, ни другой атрибутики… С другой стороны, к двум часам ночи нам было уже не до изысков – лишь бы упасть на что-то более-менее мягкое и закрыть глаза. Хотя я был настроен еще какое-то время провести за путевым дневником, чтобы потом не забыть каких-то деталей сегодняшнего дня – в особенности тех, что касались разговора в библиотеке.
– Макс, а Лермонтов говорил по-английски? – спросил Чиж, когда мы уже лежали в койках.
Я не стал напоминать про Вальтера Скотта, горячо обожаемого Михаилом Юрьевичем, и просто ответил на вопрос:
– Да, говорил. Кроме того, владел французским, немецким, латынью… и азербайджанским. Может, еще какие-то знал, не помню…
– Азербайджанским? – переспросил Вадим, глядя, как я вожу пальцем по экрану планшета.
– Ага. Он считал его не менее необходимым в Азии, чем французский – в Европе.
– Чудной он такой был, этот Лермонтов… – буркнул Чиж и захрапел.
– Чудной – не то слово… – тихо сказал я. – И очень, слишком сложный…
Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства, пыл страстей…
* * *
1838
– Письмо вам, из самого Петерсбурга! – звонко воскликнул мальчишка, когда Уваров открыл ему дверь.
– Откуда? – пробормотал Петр Алексеевич, удивленный.
«Неужто Монго объявился?» – мелькнула шальная мысль.
И верно – письмо оказалось от Столыпина.
– Дадите чего, Петр Алексеевич? – осторожно поинтересовался мальчишка.
Уваров смерил его взглядом. Это был Васька, сын почтового извозчика, который забирал письма с тракта и доставлял их в Торопец. Отпрыск часто помогал отцу развозить посылки по городу, и сегодняшний день не стал исключением.
«За такую неожиданную весточку, пожалуй, и заплатить не грех…»
Пошарив в карманах, Уваров вытащил первую попавшуюся монетку и вложил ее в руку маленького почтальона:
– Держи, малый…
– Спасибо вам, Петр Алексеевич! – просияв, выпалил Васька и тут же скатился по лестнице, только его и видели.
Закрыв за мальчишкой, Петр Алексеевич вернулся в комнату и уселся за стол. Взяв из ящика канцелярский нож, он бережно вскрыл конверт и, развернув лист, углубился в чтение.
«Любезный Петр!
Je vous prie de pardonner (прошу простить, франц.), давно тебе не писал, но на то были свои причины, о которых я всенепременно расскажу при первой же встрече. Главная весть – М. Л. возвращается в город. Старушка Е. А. тому причиной, честь ей и хвала. Мы собираемся устроить М. Л. маленький сюрприз, искренне надеюсь, что ты нас поддержишь. Приезжай. М.».
Сердце Уварова забилось чаще.
«М. Л. – Михаил Лермонтов? Мишель возвращается? Дела…»
Пальцы Петра Алексеевича застучали по столешнице. Монго давно не писал – судя по обороту, который старый друг использовал в письме, случилось это не по воле Столыпина, а по причинам, от него не зависящим.
«Каким? Домашний арест? А, может, тоже ссылка?..»
В конце письма Монго указал день, время, адрес и имя хозяина – Шувалов Андрей Павлович. Уваров нахмурился. В гостях у Шувалова ему бывать не доводилось. Да, они встречались на собраниях кружка, но тогда Петр Алексеевич куда больше общался с Мишелем, Монго, Жерве и тем же Гагариным. В декабре 1836-го Шувалов был отправлен на Кавказ, где к нему два месяца спустя присоединился и попавший в опалу Лермонтов. Сам же Уваров вскорости тоже покинул Петербург: отец кузины Анны после случившегося с Мишелем спешно устроил Петра Алексеевича мелким чиновником в одну из канцелярий Псковской губернии, чтобы тот «не пропал для карьеры». Племянник не противился: ему самому хотелось хотя бы на время сменить обстановку. Служба позволила немного отвлечься от печальных мыслей, но ночами Уваров плохо спал и часто вспоминал о печальных событиях того февраля, когда погиб Пушкин. Петр Алексеевич никак не мог отделаться от чувства вины, не совсем, однако, понимая, чем оно вызвано: чиновник не предавал Лермонтова, но допускал, что злые языки при должном усердии могли убедить Мишеля в обратном.
«И вот, кажется, судьба дает мне шанс все исправить», – думал Уваров, глядя на письмо, лежащее перед ним на столе.
Он много раз представлял себе их новую встречу с Лермонтовым, и в каждой подобной фантазии Мишель был разочарован Петром Алексеевичем.
«Посмотрим, что будет в действительности…»
Следующим же днем Уваров, сославшись на проблемы семейного толка, взял увольнение и убыл в Петербург. Заснеженный тракт, тревожный сон в пути и, наконец, как награда за терпенье – знакомые пейзажи, один вид которых воодушевлял и дарил веру в благополучный исход.
К дядюшке и кузине Уваров не поехал – остановился в гостинице: он прекрасно помнил, чем кончился их прошлый разговор с сестрой, и не желал снова спорить с ней о Лермонтове. Еще меньше Петру Алексеевичу хотелось объясняться с отцом Анны, властным самодуром, который наверняка бы разозлился, узнав, с какой целью его легкомысленный племянник возвернулся в Петербург.
«Так, с друзьями по кружку хочу немного о царе порассуждать и о ссылке Михаила Юрьевича тоже вспомнить-с…»
Представив реакцию дядюшки на подобные слова, Уваров досадливо хмыкнул.
Поужинав, он отправился в комнату, где сразу и уснул, едва оказался в кровати. Снился ему завтрашний вечер, и был это настоящий кошмар: мало, что они с Мишелем так и не смогли объясниться толком, так еще и собрание оказалось прервано Бенкендорфом и его жандарами, нагрянувшими под самый конец. Последнее, что Уваров запомнил из сего ужасного сна – как граф протягивает ему руку и говорит: «Спасибо за службу». На этом страшном месте Петр Алексеевич проснулся и долго еще лежал без движения, беспомощно вглядываясь в темноту.
Весь следующий день прошел в томительном ожидании. С одной стороны, Уваров жаждал встречи, с другой – боялся ее. Кружок Лермонтова спустя без малого год казался некоей иллюзией, которую Петр Алексеевич придумал, дабы разнообразить свое одиночество. Искренность, с которой они обсуждали власть и высший свет, теперь, спустя время, поражала воображение.
«Ссылка Лермонтова показала, насколько опасны подобные рассуждения», – думал Уваров, трясясь в экипаже.
Дом Шувалова находился на Итальянской улице. По прибытию Уваров расплатился с возницей и направился прямиком к дверям. Сердце его в те мгновения стучало быстрей обычного, и во рту было непривычно сухо.
«Интересно, Мишель уже там?»
Дверь открылась, и Петр Алексеевич уловил едва различимый аромат французского парфюма. На пороге стоял Шувалов – тонкий и прямой, как трость, с лохматыми усами и бородой. Фрак сидел на нем, как влитой; карие глаза смотрели ясно, пристально, будто с вызовом.
– Здравствуйте, Петр Алексеевич, – медленно произнес он. – Как добрались?
– Здравствуйте, Андрей Павлович. Прекрасно добрался. Тракт заснежен, но умеренно.
– Где остановились?
– В гостинице у Кулона.
– Это на Невском?
– Там, да.
– Что ж, входите, – шумно вздохнув, сказал Шувалов.
Он вел себя отчужденно, был явно напряжен, а вопросы о дороге и гостинице задавал скорей из вежливости, нежели из подлинного интереса.
«Похоже, мне здесь действительно не слишком рады, – подумал Уваров, перешагивая через порог. – Все-таки считают меня за доносчика? Возможно, возможно…»
Петр Алексеевич снял пальто и, водрузив его на вешалку, пошел к лестнице следом за хозяином.
– А не подскажете, Андрей Павлович, – сказал Уваров, когда они уже поднимались наверх, – Монго уже здесь?
– Не приехал еще, – ответил Шувалов, не оборачиваясь.
– А Мишель?
– Насколько я знаю, они собирались прибыть вместе.
По холодном тону Шувалова Петр Алексеевич понял, что хозяину их разговор не слишком приятен.
«Отчего же он вообще согласился на мою компанию? Или это Монго настоял?»
Шувалов открыл двери кабинета и жестом пригласил Уварова внутрь. Это была просторная гостиная с высоким потолком и огромной люстрой на две дюжины свечей, висящей в самом центре. Пол застилал темно-зеленый ковер; в дальнем конце комнаты находился камин, весело трещащий дровами. Рядом с ним, в двух креслах, наполовину развернутых от входа, восседали Гагарин и Жерве. Они курили, пили шампанское и о чем-то переговаривались, однако, заслышав звук шагов, князь оглянулся через плечо. Увидев Уварова, он кашлянул в кулак и сказал: