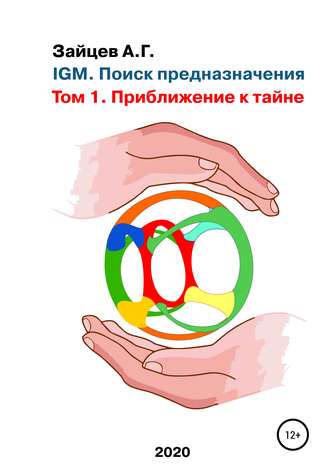 полная версия
полная версияIGM. Поиск предназначения. Том 1. Приближение к тайне
Бейтсон говорил, что, когда мы делаем первый шаг по разграничению между Креатурой и Плеромой, мы являемся основателями науки эпистемологии63, правил мышления.
И наша эпистемология является настоящей в той степени, в которой наше понимание Креатуры – всей эмбриологии, биологической эволюции, экологии, мышления, любви и ненависти, а также человеческой организации, то есть всего того, что требует совершенно другого описания, чем то, которое мы используем при подходе к неживому материальному миру, – может быть выведено из этого первого шага в эпистемологии.
Поэтому Бейтсон64 определил эпистемологию как науку, изучающую процесс познания, то есть взаимосвязь возможности реагировать на различия, с одной стороны, с материальным миром, в котором эти различия зарождаются, с другой.
Таким образом, нас интересует пограничная область между Плеромой и Креатурой, а также пограничные участки между различными видами мыслительных подсистем, включая отношения между людьми и между человеческими сообществами и экосистемами.
Грегори утверждал, что разум без материи не может существовать; материя без разума может существовать, но является недосягаемой. Он хотел побудить к принятию монизма – унифицированного взгляда на мир, который позволил бы применить научную точность и систематический подход к понятиям, зачастую исключаемым учеными, таким как «любовь», «мудрость», «разум», «священное», «эстетичное», а все вместе поможет обосновать теорию деятельности в мире живого, кибернетическую этику.
ПРЕДРАССУДКИ
Тезис: Чтобы сделать шаг из нашего мира в мир холизма, от настоящей к новой эпистемологии, нам необходимо преодолеть заблуждения и избавиться от серии предрассудков.
РАЗУМ VS МАТЕРИЯ
«Из нескольких способов мышления о системе «тело—разум», существующих в настоящий момент, большинство являются, по мнению Бейтсона, неприемлемыми решениями данной проблемы. Они-то и составляют основу для возникновения целого ряда предрассудков, которые можно разделить на два класса.»65
Первый из них помещает «объяснения жизни и опыта вне пределов тела. <Предполагается, что> какой-то отдельный сверхъестественный орган – разум или дух – должен вроде бы влиять и частично управлять телом и его действиями. В этих системах верований остается неясным, как разум или дух, будучи нематериальными, могут влиять на материю в целом.» Утверждение о «власти разума (духа) над материей» сомнительно, так как эта власть может произойти, только если разум (или дух) «получит материальные характеристики или материя получит мыслительные свойства типа «послушания». В любом случае этот предрассудок ничего не объясняет. Разница между разумом и материей, духом и телом просто сведена к нулю» – материя игнорируется за счет сведения всего к «проявлениям духа».
Другой класс предрассудков полностью отрицает разум. «Как утверждают механицисты, нет ничего такого, что нельзя было бы объяснить линейными последовательностями причины и следствия. <Продолжая их рассуждения, можно смело заявить, что> нет ни информации, ни юмора, ни логических типов, ни абстракций, ни красоты, ни уродства, ни печали, ни радости и так далее. Этот предрассудок состоит в том, что человек является всего лишь машиной, <пусть даже машиной сложной и неизученной. В современном мире этот предрассудок проявляется в поиске генетической предопределенности всего: уродства, преступности, гениальности, наркомании, альтруизма и т. д>. Даже безвредные лекарства, прописываемые для успокоения, не подействуют на такое детерминированное создание» – но они почему-то действуют!
СОПЕРНИЧЕСТВО ЭПИСТЕМОЛОГИЙ
«Но жизнь машины, даже самого хитроумного компьютера, трудна для понимания <не в частностях, а в целом> – и поэтому наши материалисты всегда находятся в поисках выхода», чтобы объяснить, что же делает живое живым.
Для этого нужны чудеса – по сути, мечтания, посредством которых материалисты пытаются сбежать от своего материализма. Им приходится придумывать множественные измерения, иные реальности, особые закономерности, сочинять фантастические сюжеты с проявлением «особых», еще непознанных или еще неоткрытых способностей, чтобы не умереть от скуки в своем механическом, бездуховном мире – и чтобы уйти от ответа на этот коварный вопрос.
И каждый материалист или атеист в глубине души (которой у него нет – она заменена «принципами») верит, что его атеизм-материализм есть самое что ни на есть правильное мировоззрение – верование, которое одно только и способно творить чудеса – в соответствии с «некоторыми правилами».
Ложное противостояние
«Эти два вида предрассудков, эти соперничающие куцые эпистемологии, сверхъестественная и механическая, как это ни странно на первый взгляд, подпитывают друг друга.» Они настолько заполняют наш дихотомический66 мир, отвлекают наше внимание, что мы почти всегда заранее согласны, что может быть либо одно, либо другое, либо изощренная смесь обоих – и никогда ничего третьего!!!
Их противостояние отвлекает от возможности и необходимости спросить: разве это все, что возможно?
«В наше время обращение к внешнему разуму ведет к шарлатанству, содействуя, в свою очередь, обращению к материализму, который затем становится невыносимо узким <– и вновь толкает на мистические поиски>. Мы говорим себе, что выбираем свою философию по научным и логическим критериям, но на самом деле наше предпочтение определяется необходимостью смены одного неудобного состояния, из которого рано или поздно мы вырастаем, на другое», которое неизбежно станет таким же ограничивающим.
В данном случае утверждение Юнга о связи между Плеромой и Креатурой – между абсолютно материальным и абсолютно идеальным – намного более правильный шаг по сравнению с эпистемологическими шагами Декарта, отделившего разум от материи и приучившего нас к противопоставлению, которое внедрилось в нашу культурную матрицу и сделало привычным антагонизм и все его виды, маскируя и отвергая возможность единства и целостности.
Эпистемология Юнга начинается со сравнения различий, а не с материи (или духа).
Разум и природа образуют неизбежное единство, в котором не существует разума отдельно от тела и нет Бога отдельно от его творения.
Юнг настаивает на различии между Плеромой – чисто физической сферой, управляемой только силами и импульсами, и Креатурой – сферой, управляемой отличиями и различиями. Эти два вида понятий-концепций связаны и сочетаются друг с другом, и не может быть карт (моделей) в Плероме, они могут быть только в Креатуре. То, что переходит с территории на карту, есть сведения о различии, то есть информация.
Креатура представляет собой кольцевые цепи причинно-следственных связей и состоит из различных уровней логической типизации, специфичной для каждой информационной экосистемы.
Основная идея эволюции
Проблема, однако, не является полностью симметричной и уже не является чисто философской.
Потому что проблема не в том, какую точку зрения выбрать, а в том, чтобы найти новую человеческую идею, консолидирующую цивилизацию. Человечеству нужен новый шанс. Человечество достигло такой точки биологического развития, когда оно ответственно за свою эволюцию, – и каждый день своими действиями подтверждает свою глупость и отдает свою судьбу воле случая или прихоти политиков и бизнесменов – и последние 30 лет тому непосредственное подтверждение.
Человечество уклоняется от вопроса ответственности за свою эволюцию, так как это требует раздачу оценок и тщательное самопознание.
Поэтому смутно ощущаемое исчезновение человека как вида являлось основным в эпистемологическом кошмаре XX века и как никогда стало острым в начале XXI67. Старые верования прекратили служить источником объяснения или уверенности, несмотря на наблюдаемый в последнее время ренессанс клерикализма. Честность правительственных лидеров, руководителей в областях промышленности и образования, живущих старыми верованиями, так же как и живущими новой верой (пока не сформированной с необходимой ясностью и последовательностью), перестала внушать доверие. Это доверие подрывается все более реальной возможностью уйти в виртуальный мир компьютерных блужданий, будь то Интернет, игры, рекламный креатив, киноиндустрия или что-нибудь другое. Разница стирается так быстро, что мы не успеваем осознать – а что происходит?
Атомизация68 мышления индивидуума, сообщества, цивилизации приводит к тому, что все становится однородным, гомогенным, как детское пюре. Человек отчуждается не только от продуктов своей деятельности – теперь благодаря мировому распределению труда порой не знает, что и для чего он делает – он отчуждается от самого себя.69
Человек исчерпал — почти исчерпал! — возможности индивидуального развития. Теперь, чтобы идти дальше, чтобы сохраниться как виду, человеку необходимо заняться самоэволюцией, а это требует совершенствования общества и цивилизации. Но любая система консервативна и устойчива, и сможет ли человек выйти за рамки индивидуального эгоизма или все завершится тотальным, глупым и таким реальным самоуничтожением?
Шаги к холизму
Следовало бы найти более стабильную целостную позицию.
Она нужна для ограничения крайностей, как со стороны материалистов, так и тех, кто ввязался во флирт со сверхъестественным, особенно учитывая, что и те, и другие постоянно подсовывают свои мелкие веры в качестве панацеи.
И, кроме того, человечеству (по крайней мере – нам) нужна пересмотренная философия или эпистемология для уменьшения нетерпимости, разделяющей эти два лагеря, и прекращения лавинообразного разделения на противоположности, которое ведет к разрушающему антагонизму и взаимоуничтожению: противоположности борются друг с другом, но дополняют далеко не всегда.
Нам также нужна модель противостояния энтропии70, порождаемой в силу человеческой глупости, которую не умаляют – а лишь подчеркивают – достижения отдельных личностей.
Сегодня мы знаем достаточно, чтобы ожидать, что эта улучшенная позиция будет унитарной и что концептуальное разделение между «разумом» и «материей» будет рассматриваться как побочный продукт недостаточного холизма71: когда мы слишком пристально сосредоточиваем внимание на частях, нам не удается увидеть необходимые характерные черты целого. И тогда мы склонны приписывать явления, возникающие благодаря целостности, сверхъестественным причинам. Особенно это верно, когда человек, сам являясь частью системы, ее элементом, пытается познать систему.
И подменяет мировой масштаб масштабом собственного мира.
Тогда и возникают истории о мистических откровениях и сверхъестественных происшествиях. За свою жизнь я наслушался рассказов о сверхъестественном, а пережитый опыт естественных и моделируемых трансовых состояний позволяет сказать, что и здесь я не нашел ничего мистического. Я скептик даже в отношении данных, получаемых от органов чувств. Я действительно верю, что есть какая-то связь между моим «опытом» и тем, что происходит «там», и эта связь воздействует на мои органы чувств. Но эту связь я рассматриваю как очень сложную, таинственную72 и требующую большого количества исследований. Как и другие люди, я обычно испытываю многое из того, что не происходит вовне, «там». Когда я присматриваюсь к тому, что, как я считаю, является деревом, я получаю образ чего-то зеленого. Но этот образ не находится «там». Поверить в это будет опять-таки видом предрассудков, суеверия, так как образ – это мое творчество, оформленное и окрашенное многими обстоятельствами, включая и заранее составленное мнение, в том числе и о возможных качествах образа.
Но если мы верим, что образ – это нечто в моем мозгу, то мы впадаем в другую крайность, так как утверждаем автономность образа от внешнего мира. И то и другое – разрыв потока событий, процесса восприятия, трансформации и осознания информации. Не может быть образа в мозгу отдельно от внешней сенсорной информации, как не может быть и самой информации, если ее нечем и некому воспринять. В сознании мы получаем оценку сенсорных сигналов, но эта оценка невозможна без потока событий и их физиологической и подсознательной обработки. Даже когда мы вспоминаем или мечтаем, мы все равно опираемся на сенсорные сигналы извне. Эксперименты с сенсорной депривацией73 демонстрируют нам эту связь очевидным образом: как только человек перестает получать извне необходимый для опорной деятельности его мышления минимум сигналов, как только ему становится нечего сравнивать, наступает дезинтеграция психики, процесса мышления.
Отсюда мы должны преодолеть типичное ограничение исследователей нашего класса – выйти за рамки «in vitro», а точнее «in imaginatio»74.
НАУЧНЫЕ ВЕРОВАНИЯ
Г. Бейтсон считал, «что более значительными, чем все виды предрассудков, связанных со сверхъестественным, являются два основных верования, тесно друг с другом связанные, причем оба они являются не только устаревшими, но и опасными… Их разделяют как современные специалисты в области сверхъестественного, так и механицисты. Суеверия и предрассудки … возникают из сочетания этих двух вер. И оба эти верования связаны с гигантом философской мысли – Рене Декартом»75.
Два пояснительных принципа
«Первым верованием является идея, лежащая в основе большого диапазона современных предрассудков, а именно то, что в нашем мире существуют два пояснительных принципа: «разум» и «материя». Как и всегда происходит в случае с дихотомией, этот знаменитый картезианский дуализм породил целую серию, не менее чудовищную, чем сам: разум/тело, интеллект/аффект, желание/соблазн и т. д. Уже в XVII веке трудно было придумать какое-либо несверхъестественное объяснение мыслительных процессов и в то же время было уже очевидно, что физическое объяснение астрономии должно было пользоваться огромным успехом. И поэтому было совершенно естественным уступить дорогу вечной как мир вере в сверхъестественное, чтобы избавиться от проблемы разума.»
И бегство от разума, от субъективного стало одной из самых сильных традиций современной науки.
Картезианские координаты
Приняв такое положение вещей, ученым можно было «продолжать свои «объективные» исследования, не обращая внимания или совершенно отрицая тот факт, что наши органы чувств, весь наш набор подходов к изучению «материи» очень далеки от «объективности».»
«Другой вклад Декарта … – это так называемые картезианские координаты76, представляющие две или более взаимодействующие переменные или путь переменной во времени. Вся аналитическая геометрия возникла из этой идеи.» И с помощью этих координат, удостоверившись в их применимости в некоторых областях человеческой деятельности, пытаются теперь изучать все другие процессы.
Когда же дело касается изучения человека или общества, вполне очевидным представляется выведение неких средних величин в качестве нормы человека.
Однако, если мы хотим узнать, что же на самом деле может достичь человек – хотя бы насколько быстро он может бегать, – мы должны изучить лучших. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы знать, к чему мы можем стремиться как к норме.
Но! Изучение среднего продолжается и стало научной традицией77 — в то время как изучение лучших нередко воспринимается как святотатство, как посягательство на божий промысел.
Итак, «обе идеи тесно связаны. И отношение между ними особенно ясно видно, когда мы думаем о дуализме разум/материя как об изобретении для удаления одной половины от другой, которую объяснить намного легче. Будучи отделенными, мыслительные явления <и связь между ними игнорировались>. В результате та половина, которая осталась, могла быть объяснена исключительно материалистически, другая же – полностью отнесена к области сверхъестественного» – и проигнорирована с благочестивым негодованием о «мистике» и «чертовщине».
«Рваные края остались у обеих частей, и материалистическая наука скрыла эту рану, разработав собственную сеть предрассудков. Материалистическим суеверием является вера (не вполне излагаемая) в то, что количество (чисто материальное понятие) может определить форму», что количество – само по себе – может перерасти в качество. Но из тысячи кроликов не получишь одного настоящего слона, из 10 дураков не сделаешь одного умного – но ученые упорно пытаются это сделать, каждый раз получая чудовище Франкенштейна, то есть мозаичный трупп, который «должен работать, но не работает» – и не более.
«С другой стороны, противники материализма возводят в принцип власть разума над материей.» Разум (или дух) становится первопричиной всего и подчиняет себе материю и все сущее. Сутью материального становится стремление слиться с духом. Беда лагеря проповедников в том, что та материя, с которой они так усердно борются, все время напоминает о себе и тем доказывает свою неуправляемость78.
«Эти оба утверждения являются чушью.
Первые являются основной посылкой современной экономики и, следовательно, одним из факторов, определяющих международный хаос и экологические бедствия», а также экономическое рабство большинства людей при чудовищно несправедливом распределении богатств.
Последнее толкает ученых мужей на унизительный флирт со сверхъестественным, в заумные поиски божественного и священного, оправдывает ксенофобию79, порождает религиозный фанатизм, нетерпимость и массу галлюцинаций.
Традиционная глупость
Грегори рассматривал «традиционные взгляды на разум и материю, мышление, материализм, естественное и сверхъестественное как полностью неприемлемые.» Он отвергал «современный материализм с такой же силой убеждения, как и кокетство со сверхъестественным. Однако дилемма между материализмом и сверхъестественным становится менее убедительной, как только мы поймем, что ни одна из этих двух моделей не является эпистемологически действительной.»
Они выдуманы самим человеком как способы объяснения реальности.
«В любом случае, сочетание двух идей, возникших у Декарта, превратилось в выдвижение на первый план количества в научном объяснении, которое отвлекало мысль людей от проблем контраста, формы и способа происходящего, а также целого, отличного от своих частей. Мир картезианских координат основывается на постоянно изменяющихся количественных характеристиках, <игнорируя контраст, различия, соотношение.> В то время как такие концепции <претендуют> на место в описании мыслительного процесса, упор на количественные характеристики отвлекает человеческую мысль от понимания, что контраст, соотношение и форма являются основой мыслительной деятельности.»
«В этом смысле обычные химические весы в лаборатории, функционирующие между человеком и неизвестным количеством «материала», содержат внутри себя парадокс границы между умственным и физическим. С одной стороны, это орган чувств <(продолжение органа чувств)>, реагирующий на нематериальные понятия отношения и контраста, с другой стороны, они используются ученым, чтобы тот мог понять что-то, близкое материальному, а именно: количество с реальными размерами.» Весы, с помощью ученого, переводят соотношение воздействия «материала» и воздействия «гирь» (заранее отмеренного количества материала) на чашки весов (которые переводят эти воздействия на рычаг) в видимое понятие – такое же абстрактное, как и большинство научных понятий и определений, – в понятие веса. «В итоге весы относятся к правде так, как ученый относится к истине психического процесса. Это устройство для создания науки, игнорирующей подлинную природу органов чувств любого организма, включая и ученого.» Явление становится одновременно материальным и нематериальным, объективным и субъективным, верным и неверным.
Критерии истинности или очевидности становятся расплывчатыми.
«Когда мы расчистим площадку от чуши, <от измышлений и домыслов,> мы сможем взглянуть на многое <(или хотя бы положить этому начало)>, сегодня такое же неясное и запутанное, как «разум», и поэтому остающееся за пределами науки.»
И все-таки очень трудно найти выход из многочисленных заблуждений, которые стали столь привычными, что кажутся очевидными и реальными.
Мы все – заложники сложившейся до нас системы познания и описания мира, ставшей для нас привычной и «естественной», какой бы она ни была внутренне противоречивой.
Концепция соционики предлагает вместо старой системы новую, пока еще черновую, не до конца проработанную, что предопределяет и те сложности, которые будут на пути любого исследователя, принявшего эту концепцию.
Но игра стоит свеч.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА РАЗГОВОРА
Начиная коммуникацию с читателем в известном нам контексте и с благими намерениями, мы рискуем привести его в неожиданные и пугающие места, куда постоянно попадают философы и шизофреники. Только первые, в отличие от вторых, всегда последовательны (по крайней мере, они так думают) и могут вернуться обратно (или хотя бы надеются на это), восстановить статус-кво даже в уже изменившемся контексте, а вторые не могут даже предположить, что есть дорога обратно. Если же философам не посчастливится вернуться обратно, их спасает статус – или лекарства.
Итак, мы начинаем такой разговор о коммуникации, сама возможность которого меняет идеи, лежащие в основе самой коммуникации, то есть подрывает устои. Для того, чтобы этого не происходило каждую минуту, коммуникация принимает форму метафоры, имеющую структуру «силлогизмов в траве».
СИЛЛОГИЗМЫ
Процесс метафоризации имеет более широкое значение, чем средство придания разговору комфортности, а именно – как говорил Грегори Бейтсон – он может быть основной характеристикой Креатуры, то есть основой мышления.
Классическая логика приводит несколько разновидностей силлогизмов, наиболее известным из которых является следующий:
Люди умирают;
Сократ – человек;
Сократ – умрет.
Основная структура этого маленького монстра – его скелет – построена на классификации. Сказуемое («умрет») придано Сократу для отождествления его в качестве члена класса «людей», чьи члены разделяют это сказуемое.
Силлогизмы метафоры устроены по-другому и могут иметь такой вид:
Трава умирает;
Люди умирают;
Люди – это трава.
«Преподаватели классической логики могут возражать против такого рода аргументации, и, конечно, такое педантичное осуждение оправдано – в своей узкой области. Но попытки опровергнуть подобные «силлогизмы в траве» были бы глупыми, так как эти силлогизмы являются тем самым веществом, из которого делается естественная история. Когда мы ищем закономерности в биологическом мире, мы встречаем их постоянно. Биологические данные имеют смысл – объединяются – благодаря «силлогизмам в траве». Все поведение животных, вся биологическая эволюция – все эти огромные области связаны внутри себя «силлогизмами в траве», нравится это логикам или нет.
Если же мы обратим внимание на человека, то обнаружим, что поэзия, живопись, мечты, юмор и религия – как и само мышление – имеют общее с шизофренией предпочтение «силлогизмов в траве».
Все очень просто: для того чтобы получить силлогизмы первого образца, у нас должны быть идентифицированные классы, чтобы подлежащие и сказуемые можно было различать.
Но, кроме языка, нет поименованных классов и отношений типа «подлежащее – сказуемое».
Поэтому силлогизмы в траве должны быть преобладающим способом коммуникативной взаимосвязи во всех довербальных областях — соответственно, во всем мире живого.»



