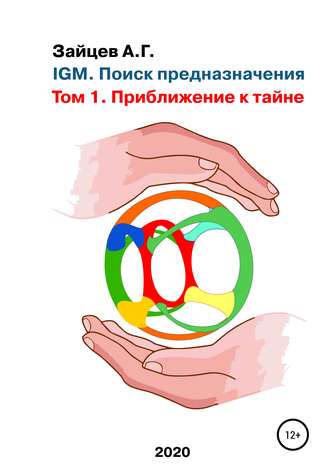 полная версия
полная версияIGM. Поиск предназначения. Том 1. Приближение к тайне
Наличие такой вариабельной и устойчивой структуры косвенно подтверждало и то, что не было общепринятой нормы человека: все предлагаемые наукой варианты нормы были лишь кусочком мозаики.
Аушра собрала из мозаики целостную картину.
Пока неполную, но достаточно масштабную, чтобы познание человека перешло на качественно новый уровень.
Как результат – Аушра создала новый механизм познания человеком самого себя и общества под названием «соционика», вспахала целину там, где даже и предположить никто не мог такой возможности. Создала то, чего ранее не было.
(Здесь еще раз необходимо уточнить, что Аушра сделала это одна. Конечно, была поддержка родных и близких ей людей, друзей. Но все истории о группе исследователей, «стоявших у истоков соционики», надо признать откровенно романтическими сказками.)
Далее идею надо было распространить.
И здесь начались трудности…
Тернистый путь первопроходцев…
Все, что было известно об отношениях между людьми, носило описательный, подчас поэтический характер. Кстати, поэты оказались куда компетентнее психологов в области отношений.
Описательный характер концепций о человеке и его отношениях приводил к тому, что любое описание, коль оно действительно отражало какую-то часть реальности, было похоже на правду. «Правд» было много. И каждый сторонник «своей правды» был готов сражаться за нее, тем более что многие создатели и приверженцы психологических концепций потратили на них всю свою жизнь. Никто из научных светил не смог подняться над личной разделяемой им точкой зрения. Ведь столько сил и времени было затрачено, чтобы все это изучить, понять, принять и поверить.
Соционика своим появлением ударила по вере, по убеждениям, по ценностям столпов психологии. А удар по вере приводит к потере критичности и ответной агрессии.
Это лишний раз подтверждало, что проблема оказалась наименее изученной. И наиболее сложно изучаемой.
Конечно, можно списать такую слепоту науки на злой умысел или глупость, защиту корпоративных интересов.
Но главная загвоздка в том, что мышление одновременно и материально и нематериально. И процесс изучения мышления крайне непрост. При этом ученые могут изучать только материальное, а значит, все, что им доступно, – это изучение следов мышления. Психологи от науки были заложниками усвоенных им методов. Аушру они не поняли сразу, а Аушра в их трудах не нашла того, что искала – и ей пришлось найти свой ответ.
Но и это еще не все. Вдобавок ко всем трудностям позиционирования в науке, история развития концепции соционики плотно переплелась с историей нашей страны и людей – и цивилизации в целом… Официальные психология и социология были догматичными, но и они уже были преданы «элитой» страны, мечтающей конвертировать свою политическую власть в благосостояние по западным стандартам.
Впереди была «пятилетка похорон», «перестройка», «ускорение», пресловутая гласность, либерализация экономики и исчезновение великой страны – Союза Советских Социалистических Республик. Впереди была ловушка инферно22 для целых народов и стран, путь умножения страданий и достижения наивысшей степени безысходности.
Весы цивилизации качнулись в прошлое.
И в этом прошлом, в этом диком капитализме и мире наживы, в мире активной, подчас агрессивной атаки на общественное сознание креационизма23, ни новым людям, ни новым взглядам, ни новой науке не было места…
КАК ЭТО БЫЛО (2). АПОСТОЛЫ
Период 1980-1990 гг.
Игра
Наука соционику сразу отвергла.
Как только появились первые статьи о новой концепции24 – так сразу обозначилось противостояние с официальной психологией, которое продолжается и по сей день – правда, уже в другой форме. Но тогда, на фоне публичных тезисов о «святости» науки, о высоких нравственных идеалах советских ученых, о самопожертвовании на стезе науки и трепетном отношении к любому новому, о стремлении открыть тайны природы и повернуть их на благо человека – такой отпор был неожиданным и шокирующим. Тезис «познай себя» в официальной науке – официальной психологии – оказался фальшивкой.
Понадобилось некоторое время, чтобы осознать простую мысль – наука о человеке как организованное поле было закрытым, формализованным и клановым. Чужих туда не пускали. Особенно туда, где прорисовывалась опасность подрыва идеологической монополии в управлении, на что претендовала советская психология.
Путь публичного обсуждения концепции был закрыт, а концепция – несколько нахально заявленная как «наука» – уже требовала выхода из тесных рамок собственной кухни – настоятельно требовала полевых испытаний.
Не случись это на переломе эпох в 83-85 гг. – возможно, мы бы никогда не узнали, что это такое, но соционике помогло само время.
Выбор пути
Началась перестройка!
Зарубежные голоса стали менее запретными, самиздат более легальным. Помогли и первые публикации при участии Савелия Кашницкого. Но все равно путь к умам и душам через печатное слово был сильно ограничен. И тогда был найден иной путь распространения – тот, которым шел самиздат, диссиденты, а потом неформальные объединения.
И соционика почти сразу ушла в андеграунд вместе с экстрасенсорикой, биоэнергетикой, уфологией, астрологией, магией и гаданием на картах. Совсем близко были «Свидетели Иеговы», сайентология и иные секты. И люди, которые пришли в «первый призыв» в соционику, были во многом неоднозначные, нередко одиозные. Их объединяло два принципа: противостояние официозу, который истину скрывает или не дает познать, и поиск истины.
Доминантой первой волны социоников был поиск истины, противостояние с официозом было просто сопутствующим компонентом.
Но андеграунд – это, прежде всего, протест.
И налет андеграунда в виде доли мистичности и некоего протеста, противопоставления «официозу» все еще сохраняется и по сей день, а тогда соционика встала в ряды полузапретного, а потому «настоящего» знания, потому как для нее других «рядов» не было.
Распространение идей соционики пошло через вовлечение в «игру-в-определение», через вовлечение людей, неотягощенных догмами, а значит, прежде всего, людей с негуманитарным образованием, которые и знать не знали, что соционика – «не наука».
Таким образом и возникла на фоне официального отторжения «своя школа».
Балтийская легенда (1)
Долгое время – по меркам человеческой жизни – идеи Аушры не были востребованы:
1) не было социального слоя, который бы в этих идеях нуждался, а кто нуждался – просто не знал о том, что есть какая-то «соционика»,
2) сама Аушра не искала опоры в широких народных массах, делая ставку на узкий круг «избранных» и «посвященных».
Первые публикации породили энтузиастов и исследователей. И этот узкий слой энтузиастов через какое-то время – в 1984-85 году привел к образованию неформальной группы. Эта группа людей, с которыми Аушра в то время общалась и одновременно обучала их, была очень разнородной и динамичной. Чуть позже из этой группы оформилось то явление, которое в «преданиях» позже назовут «Вильнюсской школой соционики»25.
На самом деле, и «школы»-то как таковой не было, была группа людей, послушавших на даче у Аушры ее идеи, влюбившихся в эти идеи, тут же эти идеи принявших и загоревшихся идеей же распространения этой идеи (вот такая тавтологическая позиция). Им казалось, что как только все проникнутся этой идеей – идеей соционики – сразу исчезнут все войны и конфликты, наступит мир и благоденстве, каждый найдет свое место в этом мире, фактически, наступит рай на Земле… Почему? Да потому, что соприкосновение с Истиной даже в таком сыром варианте облагораживает человека и всю его деятельность…
Так кажется и сейчас любому неофиту, только-только «познавшему» соционику…
При этом надо помнить, концепция соционики только-только была создана, и так много было вопросов, лакун в знании и так мало ответов! Да, ответы порой были глобальными, по масштабу перекрывали все, что могла дать тогдашняя психология и социология, и даже где-то философия, ответы переворачивали мировоззрение, и порождали в свою очередь вопросы такого же масштаба…
Соционика и ее Автор стояли на границе известного и неизведанного, только прокладывая путь к новому знанию, которое еще предстояло добыть и создать из зыбкой ткани гипотезы, хотя им казалось, что все уже готово, только слов не хватает, чтобы объяснить непосвященным. Поэтому одномоментно перемешались гипотезы, практика, методология, теория и фантазии. А также первичные заблуждения, одним из которых было поспешное типирование себя и других. Но все в этой тусовке горели идеей соционики, все нырнули в нее с головой и воображение постоянно опережало логику.
И порой так случалось, что ученики вдруг задавали вопросы, которые опережали – нет, не масштаб, – только мысль учителя по какому-нибудь конкретному поводу. И не всегда получали ответы. И возникала странная пауза…
Что же делать ученикам, на вопросы которых не мог ответить сам учитель?
А ответов – ответов каждому на своем уровне понимания – очень хотелось…
Хочу быть учеником твоим…
Чтобы понять дальнейшее, нужно сделать небольшое отступление и ответить на вопрос – а зачем идут в ученики?
Прежде всего, надо принять, что равные к равному не идут. Значит, в ученики идут люди всегда ниже уровня учителя. Бывают исключения, но это счастливые для учителя исключения, и они крайне редки.
Значит, идут в надежде подняться до уровня учителя?
Опять неверно. Такие тоже бывают, но и они редкость, а для учителя – находка и возможность вырастить ученика, который не только сравняется, но и превзойдет тебя…
Обычно же идут по совсем другим причинам. Чаще всего из-за некоторого дискомфорта, который мешает жить, как хотелось бы. Либо это отсутствие того, что имеют другие, либо это недостаточное наличие того, что у окружающих в избытке. Либо просто хочется вырваться из будничной серости жизни, разрушить монотонность и стать хоть в чем-то особенным. А учитель тебе все это каким-то волшебным образом даст, создаст, передаст.
Редко, очень редко идут по другим причинам.
И вот наши – ах, да – Аушрины ученики, восприняв идею, – а настоящая идея как искра истины всегда воспринимается легко и быстро, но не на информационном уровне (хотя любому в такой фазе восприятия кажется, что идею он не просто воспринял, а понял до глубин глубинного смысла), а прежде всего на энергетическом, эмоциональном, – через короткое время почувствовали себя наравне с Учителем. И подумали: «А чем мы хуже? Учитель – обыкновенный человек, да к тому же – женщина…»
И одновременно им пригрезились слава, благодарность человечества и место в Истории…
Но каков следующий этап работы с идеей?
После первичного – напомню, энергетического – восприятия идеи, ее нужно усвоить, утилизировать, пропустить через себя и превратить путем кропотливой работы по проявлению, проработке модели в инструмент.
Итак, восприняв идею, насытившись ее энергией, надо было работать над концепцией. Это сложно и долго.
Но вопросы-то задавать легче. Тем более, теперь можно с Учителем поиграть в вопросы-ответы: а он на эти вопросы когда не может, когда не хочет, когда не успевает ответить – и потому выглядит как-то забавно… Что дальше?
Как ответить на вопрос?
Здесь три пути.
Первый – трудный – все-таки искать ответы самостоятельно – вместе с учителем или автономно. Это – огромный и неблагодарный труд, результаты которого могут быть сомнительными, а если и будут, то не сразу. И хотя отрицательный ответ – это тоже хороший результат, надо вспомнить, что наши ученики не ученые и не в институтах работают. Соционика для них – прежде всего хобби. Поэтому этот путь сразу отпал.
Второй путь, более простой – признать, что ты не можешь ни сам, ни вместе с учителем, найти ответы. Отступить. На время, или навсегда – еще не ясно, ведь нередко тактическое отступление превращается в поражение26. Не каждому это по силам, и не каждый имеет смелость признаться в своей недееспособности.
Третий путь еще проще, а потому слаще – обратиться к чужой мудрости.
И ученики выбрали именно его – обратились к первоисточникам, которые сама же Аушра назвала таковыми27. Обратились к Юнгу, потом Фрейду и их последователям с тем, чтобы заполнить информационные лакуны – найти ответы на вопросы. Но это привело только к тому, что каждый из них, дойдя до «края концепции» – до границы возможных и уже известных ответов, вдобавок ощутил себя обманутым – и обманутым самим учителем.
А дело было в трактовке терминов из источников.
Аушра, ориентировалась на свое интуитивное понимание терминов и понятий, взятых от классиков психологии. Также она достаточно вольно обращалась с логическими построениями, поэтому многие термины прочитала «по своему» – по сути, дала им более широкий и общий – хотите, более глубокий, – смысл. Смысл, который расходился с первоисточниками! Это расхождение было результатом творческого акта, в результате которого возникла впервые в истории науки системная концепция человека и общества.
Но «ученики» этого не увидели, не восприняли, и свое непонимание использовали как повод усомниться в учителе, а потом и пнуть Учителя. Они не увидели Новую систему – они хотели преемственности и последовательности, исторической обоснованности – как и требовал научный подход. Они на шаг отставали от учителя – и этот шаг для них оказался пропастью.
Итак, они совершили типичную ошибку – пытались познать новое с помощью старого. Потому что, сравнивая тесты Юнга и Аушры, они обнаружили массу расхождений, неточностей. Но «мертвые сраму не имут», к мертвым и заграничным (в то время – все равно, что мертвые) авторитетам претензий нет, а учитель – вот он, здесь и сейчас, и он – именно он – «ошибся»! И если он ошибся в мелочах, то какой может быть ошибка в более серьезном масштабе?
Так наметилось первое расхождение в соционике – которое в 1993 году Сергей Филимонов28 выразил словами: «Аушра соционику не знает (!)»29…
Балтийская легенда (2)
Только образовавшись, Вильнюсская школа очень быстро стала легендой, даже мифом – она вроде бы была, но никто ее представителей не видел. Это впечатление усиливалось тем, что каждый «выход в народ» кого-нибудь из вильнюсской школы чаще всего оканчивался эффектом, граничащим с конфузом.
Когда в 1992 году два ее представителя – Сергей Филимонов и Дмитрий Ритчик – появились в Барнауле на семинаре по психотехнологиям, то оказалось, что они не умеют общаться с публикой. Что в общении они нудные и малопонятные. Что излагаемые ими идеи в процессе изложения становятся крайне сложными и путанными30.
Тем не менее, идея проведения масштабных семинаров им очень понравилась. Это было здорово, когда шестьдесят человек сидят в зале и слушают тебя с открытым ртом. К этой идее они вернутся годом позже, уже в Санкт-Петербурге.
А чуть ранее Вильнюсцы и примкнувшие к ним последователи почуяли себя апостолами.
Апостолы-разночинцы
Сначала они работали с Аушрой…
Краткого контакта хватило на то, чтобы перенять идею и почувствовать себя экспертами «душ человеческих» и загореться идеей просвещения масс.
Потом они стремительно «выросли» и пришли к «собственному пониманию».
И они пошли в народ (где-то с 87-го года).
Пик этого похода совпал с перестройкой (1985-1992 гг.), когда идея «человеческого фактора» стала звучать необычайно призывно и все ждали прорыва, ускорения и бог знает чего.
Эти ожидания породили и своеобразную смесь опьяняющего энтузиазма со все возрастающим хаосом в умах31. Требовалась идея осчасливливания человечества, причем осчасливливания быстрого и легкого. Как выразили эту идею Стругацкие в «Пикнике на обочине»: «счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!».
Соционика, наряду с другим – в том числе, ранее запретным – «человекознанием», неожиданно оказалась востребованной. Правда, востребованной не широко, она стала интересна по крайней мере тем, кто хотел «самосовершенствоваться» (и каждый под этим понимал что-то свое). Потребность порождает предложение, и вдруг, откуда ни возьмись, на наши с вами головы свалились разномастные просветители, колдуны, гипнотизеры, потомственные (!) маги и знахари, целители, кашпировские и чумаки. Как вампиры, они присасывались и присасывались к нашему желанию Настоящего и Большого Счастья. И не было им конца…
И апостолы («Аушрины ученики» – как они сами себя называли) и примкнувшие к ним встали в тесные ряды этих просветителей, подчас не понимая, не замечая или не желая видеть, что это за ряды…
Андерграунд, который был зачат в беседах на кухнях и в психушках, заматерел в ночном прослушивании вражеских «голосов», участием на рок-сейшенах и молодежных тусовках, густо перемешанный с алкоголем и табаком, а где-то и с наркотиками, вдруг хлынул потоком в наше спокойное и самоуспокоенное общество, которое испытало шок от этой таившейся до поры до времени чужеродности, агрессии, непримиримости и фанатичности, носителями которых были наши близкие и знакомые, друзья и соседи, вчерашние товарищи, сегодняшние сограждане и, нередко, мы сами…
А долгожданное завтра маячило где-то совсем близко, и все ждали, что вот-вот и оно наступит32.
Вот оно, будущее
И оно, это завтра, действительно пришло…
И оказалось совсем не таким, каким оно представлялось.
Оказалось, что открытая «перестройкой» дверь не вела в рай и благоденствие, а более походила на шкатулку Пандоры.
Вступили в силу иные социальные законы на основе конкуренции, конъюнктуры и манипуляции. Вступили в силу законы рынка – рынка дикого, вульгарного, силового – и понадобились не сладкие сказки о счастье человеческом, а реальные, порой грубые приемы, методы и технологии завоевания жизненного пространства.
Единицы адекватно оценивали происходящее и грядущее, остальные оставались в эйфории от причастности к изменениям и действовали по инерции.
Пока Аушрины ученики решали вопросы соционики, реальность стремительно менялась. В этих условиях наши апостолы-разночинцы все более опошляли саму идею (опошляли неосознанно, желая хорошего и только хорошего), так как были не готовы опуститься до уровня и потребностей народа, ради счастья которого – как они думали или презентовали – работали.
Они были слишком сложны.
Они были слишком заумны.
Они были пленниками идеологии «человеколюбия во чтобы то ни стало» – в своем понимании.
Они отставали от времени, предлагая сегодня вчерашнее – всегда вчерашнее…
Они предлагали идеи самопознания из страны, которая уже исчезала…
Они слышали только себя…
И когда уже было очевидно, что страна скатывается в инферно, они продолжали предлагать самопознание ради самосовершенствования – и не более.
И они не умели общаться.
Их начинания на почве формирующегося рынка гибли одно за другим.
Сначала канул в Лету журнал «16» (1990-1991 гг., вышло 7 номеров), потом умерла соционическая школа, привезенная из Вильнюса в Санкт-Петербург (С. Филимонов) и Москву (Д. Ритчик)33.
Крутое пике: исход
Так уж получилось, что Аушра не позаботилась о подготовке качественных учеников. Ведь ей нужны были просто слушатели и последователи, о качестве и сохранности переданного знания она тогда не задумывалась.
Здесь вступили в силу другие законы, не доступные тогдашней (да и нынешней) соционике, что и определило исход апостолов из народа.
Вот причины такого финала:
1) Соционика в лице апостолов не могла – не успевала (как не может и сейчас в лице ее приверженцев) охватить все многообразие проявлений человека и тем более цивилизации – но нахально (действиями в виде заявлений апостолов) на это претендовала. И дело не в концепции – все дело именно в людях, презентующих и пропагандирующих концепцию на своем фоне.
Итак, конфликт первый: между реальным и презентуемым масштабом притязаний.
2) Апостолы оказались не готовы создавать технологии под требования ситуации, а технологию от Аушры усвоили очень плохо – в силу вечной иллюзии интеллигентных людей в своем умении во всем разобраться, не особо в это вникая. Вечная иллюзия псевдо-творцов, из которых и состоит в основном интеллигенция, что они «могут мир перевернуть, если им дать точку опоры», что творят «они нетленку», что это «их не понимают, а не они непонятны», сыграла в судьбе соционики почти роковую роль. Творческая импотенция прикрывалась разговорами о великом, но со временем становилась все очевидней, что в такой34 соционике кроме разговоров нет реальных инструментов.
Итак, конфликт второй: между требуемым и наличным уровнями технологии.
3) И самое главное в том, что Знание не было передано, точнее – не было воспринято во всей незавершенной полноте, а всего лишь являло из себя отраженный свет там, где требовалось собственное горение.
А такое «знание» может работать только по модели воображаемого успеха.
Значит, апостолы решали задачу со многими неизвестными.
Быть или казаться?
Как мы знаем, такая задача неразрешима в принципе и им пришлось имитировать процесс решения методом, который почему-то считается достижением русской культуры – методом тыка.
Как это выглядело?35
Не зная направления, не зная конечной цели (а всего лишь смутно её воображая), они провозгласили: идите (за нами) и найдете… (Что именно найдете, не было сказано явно, но как всегда подразумевалось СЧАСТЬЕ. В данном случае, счастье через приобщение к соционике.)
И люди шли, шли, шли…
Но очень скоро энтузиазм как основной источник такого движения стал гаснуть.
Отчего?
Сработал первый парадокс метода тыка: чем дольше совершается мнимая работа, тем меньше уверенности в успехе.
Оно и понятно: энергия тратится, тратится, тратится, а реального продукта – в виде пресловутого СЧАСТЬЯ или хотя бы знания, или новой информации – нет. Энергия тратится в таком процессе без возврата, уровень энергообеспечения процесса падает, а чем ниже уровень энергии, тем все бледнее модель воображаемого успеха, тем слабее ее притягательная сила.36
Это замедление продолжается до тех пор, пока совсем не исчезнет мираж воображаемого успеха. Пока от идеи не останется только информация, которая энергетически мертва. Когда на вопрос «зачем мы изучаем это?» даже многозначительное молчание уже не срабатывает, так как уже нет ореола очарования идеей.
Что при этом происходит?
Напрашивается ответ: в движении вперед – в мнимом движении вперед, потому как идти куда-то без знания цели, все равно, что на месте маршировать, – наметилась остановка.
Но этот ответ передает только внешнюю сторону дела.
Точный ответ будет иной: наступил кризис.
Сработал второй парадокс метода тыка: если работа идет по программе модели воображаемого успеха – энергия не возобновляется. Становится незачем идти.
На бытовом уровне это выражается в том, что становится скучно.
Движение вперед подразумевает постоянное обновление, создание нового, а апостолы были готовы только повторять уже известное в различных интерпретациях – и тем умножали степень неопределенности, запутывая последователей все сильней и сильней.
Но, как известно, сколько ни говори «халва» – во рту слаще не станет.
Вот и третий конфликт: между обещанием и исполнением, между притязаниями и наличными возможностями. Алхимия превращения разговоров в знание, а знаний – в умения для апостолов оказалась недоступна. Когда Аушрины ученики «рассказывали соционику», то тема быстро иссякала – ведь концепция представляла собой систему вешек, между которыми нужно было проложить тропы, обустроить их, а апостолы продолжали мечтать. Тогда они начинали рассказывать – естественно в своей «соционической» интерпретации – Юнга и Фрейда. Но это только запутывало тему и быстро наскучивало, хотя бы потому, что уровень текстов и концепций и Фрейда и Юнга был на порядок ниже…
Все это вместе определило кризис развития концепции, который выразился, прежде всего, в возможности изучить соционику только поверхностно, а за этой радужной пленкой вдруг обнаруживалась пугающая пустота из масштабных вопросов без готовых ответов.



