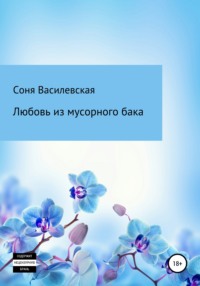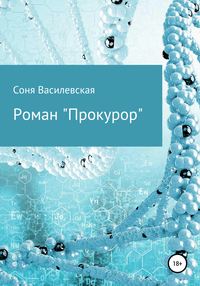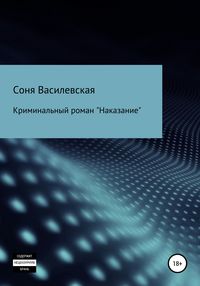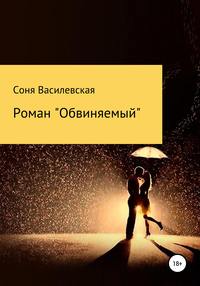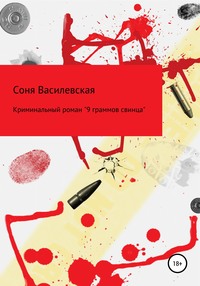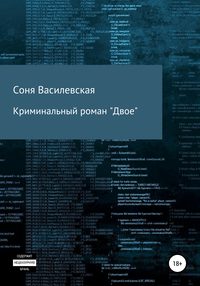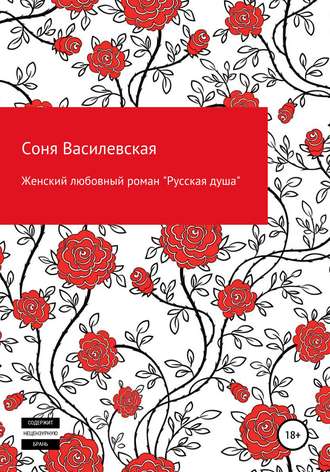
Полная версия
Женский любовный роман «Русская душа»
Не будь Ахмет единственным свидетелем честности Ильмиры, он бы, наверное, взвыл в дикой досаде: столько времени и усилий потрачено, и все напрасно! Но муж-кавказец ни в чем не мог упрекнуть жену-белоруску, потому как только что он с трудом забрал ее невинность. А дабы было что показать ожидающим, Ахмет осторожно порезал себе палец и своей кровью запятнал простыню. После этого, оставив измученную Ильмиру отдыхать на кровати, он вынес простыню на обозрение.
Ильмира лежала и боялась пошевелиться. Боялась новой боли, крови, слез, но слышала обрадованные возгласы за дверью. И в этот момент она вдруг ощутила себя страшно униженной… Да, по сути, вся эта картина действительно оскорбительна…
Зато мечта ее недавнего детства сбылась: обожаемый Ахмет все-таки стал ее первым мужчиной.
Тогда же ей подумалось: а зачем Ахмет мучил ее столько времени? Ведь кровь на простыне все равно его, а поэтому он мог бы сразу порезать себе палец и не нужно было терзать ее. Растерзал бы потом как-нибудь… Только потом, когда Ильмира задаст ему такой вопрос, он ответит:
– Если бы ты вдруг не была девственницей, я бы не стал мараться сам и оправдывать тебя. Я ведь предупреждал тебя, что для меня это очень важно…
Так началась жизнь Ильмиры Рахмедовой в горах Дагестана. Скоро она поняла, куда попала. Аул Рахмедовых представлял собой глухое горное селение, находившееся за несколько десятков километров от ближайшего города Дербента. Ислам был здесь образом жизни. Здесь господствовал строжайший адат1, который действует в силу привычки и в глухих, отдаленных горных селениях его влияние особенно сильно. Очень сильны были здесь консервативные устои ислама, высокой была обрядность по мусульманскому культу. Подавляющее большинство семей здесь были большими, жили родовыми сообществами и чтили культ предков. Жизнь и быт таких семей, в том числе и Рахмедовых, держалась на авторитете старейшин и аксакалов, которые в нравственном сознании сохраняли религиозные предрассудки и обычаи, характерные для времен их юности, а по сути, для далекого прошлого лезгин. Старейшины были приверженцами старой морали и шариата, поэтому воспитание потомков было преимущественно консервативным, основанное на религиозных положениях, запретах и предписаниях. По этой причине и в образе жизни людей всего аула сохранялись те нравственные нормы, обычаи и традиции, которые восходят к эпохе патриархально-родовых отношений и претерпевшие существенные изменения после Октябрьской революции, во многом разрушившей устоявшиеся стереотипы.
Через двенадцать лет у Ильмиры уже было четверо детей – две девочки и мальчик, сейчас она ожидала пятого. За эти годы она успела тысячу раз пожалеть, что вышла замуж за иноверца: женщина у мусульман – это только мать и хозяйка. Муж никогда не поможет ей выбить ковер, никогда не сходит в магазин, не поможет с ребенком. Муж зарабатывает деньги. Собственно, работать может и женщина – это ей позволительно, но у нее, как правило, не возникает такой необходимости. Ильмира вышла замуж, закончив школу, но больше она ничего за своей душой не имела. Вся ее специальность была домохозяйка, вся работа – дети и кухня. Ее дети были разного возраста, но старшие сын и дочь росли ребятами самостоятельными, а вот вторая дочка, шестилетняя Гульнара, росла неспокойной, трусливой девочкой. Она требовала к себе повышенного внимания и была очень привязана к матери, следовала за ней буквально по пятам. Но Ильмире было тяжело уделять ей постоянное внимание в своем положении – был большой живот. Обделенная Гульнара начинала вредничать и капризничать. Сил у Ильмиры не было уже никаких, а предстояло еще приготовить Ахмету ужин и убраться в доме. Помочь ей во всем этом тоже было некому.
Правда, надо отдать Ахмету должное, он никогда не поднимал на Ильмиру руку – в семье Рахмедовых это категорически запрещено и считается позором для мужчины, при этом муж имел полное право наказывать жену за непокорность. Однако и Ильмира теперь была мусульманкой, а значит, должна свято соблюдать заповеди Магомета. И если пророк сказал – «так нельзя, терпи», значит, нельзя и надо терпеть. В противном случае ты отступаешь от религии и тебя можно за это покарать.
С годами Ильмира поняла, что на самом деле она Ахмета никогда не любила, а чувство, которое испытывала к нему пятнадцать лет назад, была вовсе не любовь, а влюбленность или даже скорее увлечение. Возрастное. Разве могла она полюбить в пятнадцать лет, да еще от чистого сердца? Зато она сумела влюбить Ахмета в себя, ради него приняла иную веру, во многом дикую, но ту, которую выбрала сама. Ту веру, которая связывает женщине руки… И много раз уже она задавала себе вопрос: а оно ей надо было?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Журналист
Дагестан – республика, половину населения которой составляет горское население, а вторую половину – сельское. Сельское занимает горные и равнинные районы. Лезгины проживают на юго-востоке республики, условно делятся на «северных» и «южных»; территория, занимаемая лезгинами, делится на предгорную и горную. Климат в горах более прохладный, чем на равнине, но летом нередко бывают и засухи. Город Дербент расположен на побережье Каспийского моря, в южной части страны.
В горах лезгинские селения обычно расположены на склонах. Здешняя местность – горная, дома стоят на склоне гор, и крыша одного дома является стеной или площадкой другого – одно здание стоит над другим. Улочки здесь тесные. Ильмира Рахмедова выходит из дома, похожем на хибару, в руках несет таз с бельем, чтобы развешать его во дворе.
В то же время к аулу подъехала машина телевидения – канала «ТСН». Из кабины высадились два человека и еще третьего сняли с кузова. Это были журналисты, прибывшие в Дагестан в рабочую командировку: репортер, оператор и водитель. Погода в этих местах обычно стоит прекрасная, поэтому телевизионщики выбрали подходящее место и разбили палаточный лагерь из трех палаток. Лагерь этот был хорошо виден в поле зрения Ильмиры.
Журналист сразу заинтересовал Ильмиру, но почему – Ильмира не могла ни понять, ни объяснить. А потом она каждый день выходила к месту парковки телевизионщиков в надежде увидеть журналиста. Зачем ей это надо было, Ильмира опять же объяснить не могла.
«О аллах, я ведь мусульманка, – упрекала она себя, – мне нельзя смотреть на другого мужчину. Если об этом узнают дома… о, аллах, тогда я пропала!»
– Мама, мама! – ее мысли были прерваны детскими криками. Трое ее детей неожиданно сбежались со всех сторон и обступили ее гурточком. Ильмира расцеловала детей и пошла вместе с ними в дом.
Всего у Ильмиры шестеро детей: три сына и три дочки. Старшему, Анвару, уже восемнадцать, самой младшей Джамиле – три года. Вот уже двадцать лет Ильмира Владимировна Рахмедова живет в Дагестане, двадцать лет как она стала женой Ахмета Рахмедова. И все то новое, что случилось с ней за эти годы, только дети, которые рождались у нее с завидным постоянством каждых три года, будто по расписанию. Правда, она успела еще выучить лезгинский язык и здесь, в дагестанском ауле, использовала лишь его, хотя лезгины владеют и русским, русский же язык используют как средство межнационального общения. Единственная славянка среди горцев, Ильмира носила мусульманский платок, как исконно мусульманская женщина. Иной веры, кроме магометанства, она теперь не знала.
У Ахмета не было ни братьев, ни сестер, но было полно прочей родни – бабушки, дедушки, тетки, двоюродные братья и сестры, и у каждого – свои семьи. Родня была очень многочисленной, трудно было даже посчитать точное количество людей, и все жили одной семьей под одной крышей – это редкие лезгинские семьи сегодня. Но женщины с малолетними детьми жили отдельно от мужчин, а мужчины – отдельно от женщин. Такой уклад называется гаремом. По правилам, в гарем имеет право входить только его хозяин, для посторонних же вторжение в гарем является тяжелым проступком, а женщины обязаны соблюдать в гареме затворничество. Но в здешнем краю было все не так категорично: в гареме было свободное перемещение, женщины лиц не закрывали, а мужчины семейства Рахмедовых имели право доступа сюда в любое время дня. При этом каждая жена обязана была по первому требованию мужа уединяться с ним для плотских утех. Жили в таких условиях, что негде было даже набрать горячей воды, а ходить за ней приходилось за несколько километров. И, естественно, что в условиях столь тесного проживания все родственники были друг у друга на виду.
Ильмира с детьми вошла в дом. Там вся женская часть дома работала: кто убирал, кто готовил еду. Белье было все перемыто. Ильмира ненавидела этот дом вот уже несколько долгих лет. Все ей здесь приелось, даже люди, окружавшие ее. Ей надоела сама исламская религия, надоели их праздники – как сытый Курбан-байрам, так и голодный Рамадан. Надоело молиться по пять раз в день. Надоела эта земля дагестанская, этот край, надоел муж, надоела сама жизнь, в которой Ильмира была сейчас как капля в море… Надоел язык, на котором ей теперь приходилось постоянно общаться, надоел этот бессмысленный платок, платья по самую лодыжку длиной – хотелось свободы. Свободы действия и движений, раскованности. Все более лениво совершая пятничный намаз, она боялась неосторожно выдать свое поведение. В кругу женщин, в одночасье хозяйничавших на кухне, боялась обратить на себя внимание плохим настроением или отлыниваем, боялась нечаянно сказать слово по-русски. Только дети радовали ее, хотя часто Ильмира думала, что весь этот выводок ей совершенно ни к чему, а если бы она была замужем за человеком своей крови, то никогда бы их столько не родила. А здесь она и рожала публично, на глазах у всех обступивших ее взрослых женщин. Конечно, в ауле были больницы и родильные дома, приезжали «скорые», но так повелось, что в семье Рахмедовых рожали дома. В семье имелись свои повитухи – пожилые женщины или бабушки, которые прежде для «облегчения» родов использовали разные магические средства. Сегодня магию не применяют, а приглашают врача, однако домашние роды стали семейной традицией. Но, в принципе, в этом краю было много публичности… Даже вот, когда у ее старшей дочери Гузель появились первые месячные, это нужно было обязательно предавать гласности. Теперь Гузель считалась невестой и с этого дня девушки повязывали платки и уже никогда их не снимали. В некоторых странах с этого дня девушки закрывали лица. Но зачем, спрашивается, об этом знать всем? Этого Ильмира не могла понять до сих пор.
Ильмира вернулась в дом, чтобы совершить омовение для полуденной молитвы. Омовение – это умывание тела верующего водой или песком перед намазом для ритуального очищения; Ильмира склонилась над тазиком с водой.
Молитвы проходили в специально отведенной для этого комнате, в которой также хранился Коран. Домашние моления совершались самостоятельно, без участия духовных лиц, но под контролем старейшин. Дома молились все вместе – и мужчины и женщины в одной комнате, все одинаково становились на колени, соблюдая необходимые для этой процедуры формальности, и поворачивались в сторону Мекки. В мечеть ходили только по пятницам.
Ильмира лишь делала вид, что молится, губы ее не произносили ни одного молитвенного слова. С каждым разом она все больше немела, равнодушие ее увеличивалось. Она переставала даже слышать, как молятся рядом с ней.
Вскоре в ауле проходил какой-то национальный лезгинский праздник. По традиции, гуляли всем селом. Центральной фигурой этого праздника стал огромный торт, который на рекорд испекли несколько женщин из села. Метр в высоту и полтора в ширину, он насилу уместился на деревянном столе. Это событие не осталось без внимания журналистов, работавших прямо по соседству. Командированный репортер обязательно снял репортаж о празднике и особенное внимание уделил кондитерскому изделию, где комментаторами выступили жители враз прославившегося села.
– Скажите, – задал он вопрос одной из женщин, – вы всем селом с тортом вместе хотите попасть в Книгу рекордов Гиннеса?
– Да! – весело ответила женщина. – Мы его на рекорд и работали!
Переступая с место на место, в густой толпе народа, журналист неосторожно наступил кому-то на ногу. Он сразу же обернулся, чтобы извиниться.
– Простите… – начал он и запнулся, не зная, как сказать дальше. На него зелеными глазами на русском лице смотрела Ильмира. Это ей он нечаянно отдавил ногу. Как извиниться перед мусульманской женщиной?
–…ради аллаха, – подобрал он наконец нужное слово, и долго еще не отводил от Ильмиры нескромный, но осторожный взгляд.
В очередном выпуске новостей Ильмира узнает, что журналиста зовут Александр Чернецов – таким именем он подписал свой репортаж.
Вечером после работы телевизионщики жарили шашлык в своем лагере. Александр пребывал в романтически приподнятом настроении духа и, не сдерживаясь, признался:
– Какой, однако, «красывый жэнщына»!
Оператор Борис Кустодиев засмеялся:
– Ты чего, Сашок?
– Борь, ты разве не обратил внимания, как она красива?
– Кто?
– Та женщина, которой я на ногу наступил.
– Да что женщина? Мусульманка – и все.
– Нет, Борь, не все. У нее славянское лицо и глаза зеленые…
– Тем более. Славянка в горах Кавказа – это только чья-то жена… – Борис жадно впился зубами в кусок мяса на вертеле. – Обалденное мяско, пальчики оближешь. Первый раз в своей жизни я пробую баранину. Правда, жирная, зараза.
Александр не слушал, расслабился:
– Я хочу увидеть ее еще раз: она меня очень заинтересовала. Ты не видел, где именно она живет?
– Санек, пойми, наконец, что она недоступна…
– Но видеть-то мне ее, по крайней мере, можно? – не сдавался Чернецов.
– А если ее муж-джигит о том узнает? «Секир-башка» будет и тебе, и ей. Лучше составь мне компанию, укуси мяска-то…
Чернецов жевал мясо и задумчиво твердил:
– Борь, я должен ее найти.
– Интересно, как? Село большое…
– Я спрошу у людей, где живет женщина с русским лицом – думаю, меня поймут.
– Ну-ну, попробуй. Только вот когда о ней по деревне слух пойдет, что ею посторонний мужик интересуется, «секир-башки» тебе не миновать. Тебе нужна женщина, которую можно было бы послать вместо разведчика. Если бы женщину женщина искала – другое дело совсем было бы.
– Где я ее возьму, я единственный репортер на Северном Кавказе! – сердито отозвался на предложение Чернецов.
– И в нашей съемочной группе, как назло, тоже девчат нет… м-да, ситуация, – Борис облизал пальцы.
– Фиг с ним, буду действовать сам, – решительно заявил Александр. – В конце концов, я журналист, а журналистам, как врачам, можно сделать и исключение – профессия такая. Может, она мне в силу работы нужна?
И Александр стал выслеживать Ильмиру. Начал с того, что спросил у местного жителя – мальчика лет девяти, где живет русская женщина. Мальчик сначала не понял, о ком идет разговор, но потом указал на дом Рахмедовых. Выбор ребенка был не случайным: Чернецов надеялся, что ребенок не очень сведущ в вопросах религии и интерес постореннего дяди к их тете ему ни о чем не скажет. Так оно и случилось. К тому же Александр не знал, как обращаться к почтенным старцам…
Но в доме Рахмедовых жило много женщин, и нужно было еще дождаться, когда выйдет на улицу та, что ему нужна. Сашка быстро понял, что ждать ему, возможно, придется долго, и решил было обойти весь дом со всех сторон, заглядывая на всякий случай в окна. Конечно, он и подумать не мог, что женщины в этом доме живут гаремом, а гарем – на втором этаже, но ему несказанно повезло: в окне на кухне он увидел ту, которую искал. Ильмира месило тесто и была одна. Кухонное окно было, по его подсчетам, близко от входной двери, и Сашка постучался.
Кухня действительно находилась рядом с выходом на улицу, поэтому Ильмира услышала стук и без всякой предосторожности открыла. Чернецов не верил своим глазам: перед ним стояла женщина русской национальности, со славянским лицом и в платке, который ей, кстати, совсем не шел. На вид ей было около сорока. Александр растерялся, забыл даже, зачем пришел.
–…Так вам что угодно? – продолжала спрашивать Ильмира, не получая ответов на свои вопросы.
– Я… мне… я хотел только спросить, не дадите ли напиться?
– Конечно. Сейчас, минуту…
По правде говоря, Александр мало сомневался в отказе: когда-то он слышал, что кавказцы – народ обычно гостеприимный и никогда не отказывают в помощи, а если могут, то всегда посильно помогают… Ильмира жестяной кружкой зачерпнула из пластмассового ведра воды и вынесла гостю.
Александр пил и не сводил глаз с хозяйки, а в это время в хибару возвращалась Зарема – жена двоюродного брата Ахмета. Она еще только приближалась, и бог весть, что ей привиделось издали, но когда Чернецов ушел, она напустилась на Ильмиру:
– Как тебе не стыдно улыбаться чужому мужчине и не наших кровей? Или ты забыла, что сказал Пророк?
– Зарема, аллах с тобой, тебе показалось! Этот человек всего лишь попросил стакан воды, но я не смела с ним заговорить или улыбнуться ему!
– Ты стояла очень близко к нему…
– Стояла… – не стала отрицать Ильмира. – Зарема, дай слово, что ты об этом никому не скажешь…
– Поклянись пророком, что ты ему не улыбалась…
– Клянусь Магометом, – Ильмира упала на колени и крепко поцеловала руку Заремы. Лицо Заремы смягчилось.
– Ладно, я никому не скажу… Но, признайся, тебе ведь понравился этот русский?
– Вовсе нет. С чего ты вязла?
– Он на тебя так смотрел!..
– Просто я здесь единственная русская, вот и привлекла его внимание. А если даже и посмотрел – так он на меня, а не я на него.
– Честно? – строго спросила Зарема.
– Честно, – подавленно ответила Ильмира и чуть не разрыдалась от обиды.
– Ну, смотри… – как будто пригрозила Зарема и ушла. А Ильмира обтерла руки, села за стол и упала на вытянутую руку. Послышались всхлипы.
Но больше Чернецов не приходил и Ильмира о нем не вспоминала. Для нее Сашка был обычным прохожим, попросившем напиться, а она ему неосторожно открыла. Она не думала о том, почему этот русский пришел именно к ней, хотя аул большой, а дом Рахмедовых ничем особенным на общем фоне не выделяется. Ей и в голову не могло прийти, что русский смотрел на нее не простым гостем…
Как-то утром Ильмира взяла старшего сына Анвара и вместе с ним пошла за водой за полтора километра. Анвару шел уже девятнадцатый год, лицом он был вылитый отец. Он шагал впереди матери и нес одно ведро с водой, а два полных несла мать: у мусульманских мужчин не принято помогать женщине справляться с ее прямыми обязанностями. Для Анвара это ведро было как кружка, а Ильмира обливалась потом и периодически останавливалась передохнуть. И где-то на середине пути мать и сын нечаянно наткнулись на съемочную группу телевизионщиков.
Увидев, в каких условиях живут женщины на Кавказе, Александр разинул рот и долго не мог его закрыть, пытаясь переварить тот факт, что женщина тратит надрывные силы, а мужчина идет рядом и как будто этого не видит. Но вдруг он узнал в женщине ту, славянский облик которой не давал ему покоя уже несколько месяцев. Александр хотел что-то сказать, но не решился. Ильмира, в свою очередь, окинула репортера уставшим взглядом…
Никогда Александру Чернецову не было так тяжело, как сейчас. У него чесались руки, чтобы взять ее ведра и понести туда, куда она скажет. На выручку пришел оператор Кустодиев:
– Что ж ты, – обратился Борис к Анвару, – матери не поможешь? Поднес бы ей хоть ведро, что ли?
– Это ее дело – ведра таскать, – резко ответил сын на хорошем русском.
– Зачем же ты тогда пошел с ней, если не хочешь помочь? – взволнованно вмешался Александр.
– Потому, что так положено, – неласково ответил Анвар.
– Я журналист, – вырвалось у Чернецова, – и готовлю по спецзаказу из Москвы передачу про народы Северного Кавказа. Собираю фольклор, записываю обычаи и обряды, историю народа, – на ходу сочинял он. – Сейчас у меня как раз очередь лезгинов. Не могли бы вы мне уделить какое-то время для беседы?
– Сейчас – нет, – неожиданно переменившимся тоном ответил Анвар. – Вы приходите к нам домой – посмотрите на наше гостеприимство, попробуете нашу кухню… Только не сегодня: у нас сейчас Рамадан – мы постимся, поэтому по правилам угостить вас не сможем. Заходите через две недели. – Анвару польстило то, что с таким предложением журналист обратился именно к нему, а он воспользовался своим мужским правом принимать решения.
– Мне прийти к вам домой? – у Чернецова будто крылья выросли. – Куда именно?
– А вы ждите здесь: мать за водой ходит часто, а я ее бессменный сопровождающий. Я тогда дома скажу – там все приготовят к вашему приходу.
Эти две недели журналист провел в поездках по Дагестану – такое задание ему поступило из Москвы. Делал репортажи из Дербента, Хасавюрта, Махачкалы и Кизляра, который был довольно далек от здешнего села. Чернецову поручили подготовить полную программу о Дагестане – в жанре документального фильма. После, собрав полученные сведения, Александр приобщит их к уже имеющимся материалам, и у него получится складный документальный цикл программ.
У Рахмедовых гости встречены были очень добродушно. Сразу с порога, как только они вошли, Казбек Азаматович, дед Ахмета, заиграл какую-то незнакомую гостям мелодию на национальном инструменте, домочадцы запели песню на лезгинском языке (позже Александр узнает, что это был лезгинский фольклор, которым обычно приветствуют почетных гостей). К их приходу накрыли щедрый стол, на котором, однако, не было водки. Зато было изобилие блюд, которые русским гостям показались изысканными деликатесами. Мусульмане не едят свинины, зато употребляют прочие виды мяса – говядину, баранину, курятину; мясных блюд было много: кебаб, котлеты, бозбаш (мясной суп с картошкой), заимствованные у русских. Стояло на столе и повседневное блюдо – хинкал с начинками из творога и яиц и даже праздничный пирог и халва. Но, конечно же, главным был царь шашлык из баранины, бесподобно приготовленный с приправами на шарнире. От шашлыка исходил божественный запах.
Никогда в жизни ни Чернецов, ни Кустодиев не ели так вкусно и сытно, как сегодня. Александр даже украл кусочек шашлыка и курятины для съемок – чтобы подразнить зрителей.
Наевшись до отвала, журналист приступил, наконец, к делу.
– Мы готовим передачу о народах Дагестана, – пояснил он.
– О, – одобрительно сказал аксакал, – нашим народам есть о чем рассказать. Только в Дагестане народов много, и часть из них живет здесь, в горах, а часть – на равнине. Вы уже были на равнине?
– Мы обязательно там побываем, – заверил Чернецов. – Нас интересуют обычаи, культура, фольклор, религия – одним словом, все, что имеет отношение к дагестанским народам. Но начать мы решили с лезгин, потому что в вашей местности мы остановились. Можно обратиться с вопросом к вашей женщине? – осторожно спросил Александр, обращаясь ко всем сразу.
– Обратитесь, – разрешил аксакал.
И Чернецов завел разговор, конечно же, с Ильмирой:
– Вот я заметил, что вы славянской наружности. А что вы делаете в горах Дагестана?
– Это правда, – живо ответила Ильмира. – Я действительно русская и по крови – христианка. Моя родина в Беларуси, в провинциальном городе, где я родилась и прожила восемнадцать лет. Но потом, чтобы выйти замуж за Ахмета Рахмедова, человека иной религии, я приняла его веру. И теперь живу так уже двадцать лет.
– Вы двадцать лет живете в Дагестане?
– Да.
– А зовут вас как?
– Ильмира. Для белорусов имя, конечно, странное, а здесь оно очень удобное.
– Вас так назвали с рождения или вы сами приняли это имя?
– Так меня зовут всю жизнь, а назвали в честь акушерки, помогшей мне появиться на свет; она была татаркой. Этим именем меня крестили.
«Вот и познакомились, дорогая!» – по себя обрадовался Чернецов.
– А может быть, вы мне расскажете об этнических особенностях лезгин?
– О нет, – вмешался Шамиль Казбекович, – она по происхождению не лезгинка, поэтому ничем вам помочь не сможет. Извините.
Сашка расстроено умолк.
Беседуя с журналистом, Ильмира успела заметить, что он весьма хорош собой, молод и аккуратен. В него можно было бы влюбиться, если бы для нее это не являлось запретным грехом. Однако после индивидуальной беседы с Александром Ильмиру будто подменили. Она вдруг потеряла покой и стала думать о журналисте днями и ночами. Мысли ее были настолько глубокими, что она иногда не слышала, как к ней обращаются в доме, чего от нее хотят дети, что ее зовут. Глядя вокруг себя, Ильмира со страхом понимала, что окружающее ее общество людей становится ей все более противно. Она боялась себе признаться, что ей понравился журналист, что ее к нему тянет. Ей казалось, что это не то влечение, которое греховно и запретно, а просто журналист был русским, и теперь их двое русских в этом глухом дагестанском ауле, населенном одними лезгинами. Это национальное, успокаивала себя Ильмира.
Поздним вечером, когда в гареме все утихло, Ильмира предприняла секретную вылазку. Она вылезла из кровати и на цыпочках спустилась на первый этаж дома. У кого-то слева от нее работал телевизор, но как раз поэтому ее и не услышали. Ильмира кралась, как кошка, осторожно, с оглядкой, стараясь не шуметь, и, наконец, отодвинула задвижку. Лицо обдал теплый ветер. Ильмира ступила шаг за порог, плотно прикрыла дверь с улицы и со всех ног побежала без оглядки.