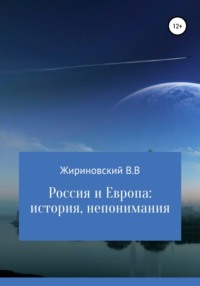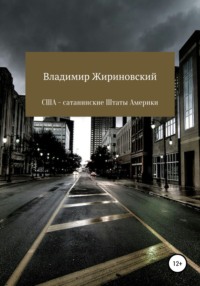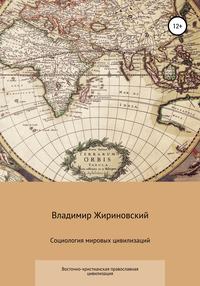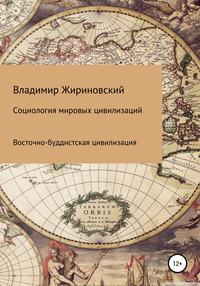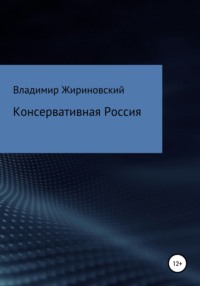полная версия
полная версияКаста предателей
1)
Уничтожить не только христианство, но и всякую религию.
2)
Освободить подданных от принесённой ими присяги на верность монарху.
3)
Внушить под названием «прав человека» своим последователям сумасбродные учения, идущие наперекор тому законному порядку, который существует в каждом государстве для охранения общественного спокойствия и благополучия; этим воспалить их воображение, рисуя им соблазнительную картину повсеместной анархии, для того чтобы они под предлогом свержения ига тирании отказывались исполнить законные требования власти.
4)
Позволить себе для достижения своей цели употреблять самые возмутительные средства, причём они особенно рекомендуют «ак- вотофану», самый сильный яд, который умеют отлично приготовлять и учат этому приготовлению и других…
Фридрих Вильгельм. Берлин, 3 октября 1789 года».
Сначала Екатерина относилась довольно равнодушно к событиям во Франции. Она даже отрицательно отзывается о французском короле и восхищается созывом нотаблей. Но взятие Бастилии и последующие события «отрезвили» императрицу.
Екатерина не допускала, что могут быть какие-то условия между королём и народом, и всякую конституцию считала лишь слабовольной уступкой власти в пользу кучки негодяев.
Законодательное собрание Екатерина называла не иначе как гидрой о 1200 головах, а депутатов сравнивала с Пугачёвым: «Эта сволочь похожа на маркиза Пугачёва», – говорила она.
Она обратилась с официальными приглашениями к западноевропейским монархам помочь французскому королю.
«Мы, – писала она, – не должны предать добродетельного короля в жертву варваров. Ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии…»
Екатерина не понимала роли масонства в революции, она обвиняла «разбойников» и других недобросовестных людей, а не философов, которые «проповедовали лишь добро и истину».
Но последующие страшные события, как то: убийство короля Людовика XVI, сведения об участии в революции «братьев» и данные о заговоре масонов против алтарей и тронов – заставляют Екатерину изменить своё мнение о работе «просветителей»:
«Я вчера вспомнила, что вы мне говорили не раз: этот век есть век приготовлений. Я прибавлю, что приготовления эти состояли в том, чтобы приготовить грязь и грязных людей разного рода, которые производят, производили и будут производить бесконечные несчастья и бесчисленное множество несчастных», – писала Екатерина Гримму в 1794 году.
В следующем году она уже категорически заявляет, что энциклопедия имела только две цели: одну – уничтожить христианскую религию, другую – королевскую власть.
Но если Екатерина неясно представляла те силы, которые вызвали и руководили французскими событиями, то гениальный Суворов с поразительной точностью видел и понимал, что происходит во Франции и кто виновник всех преступлений и бед французского народа.
Представленный Суворову на другой день по взятии Измаила (11 декабря 1790 года) Ланжерон получает любопытный приём:
– Где вы получили этот крест?
– В Финляндии, у принца Нассауского!
– Нассауского? Нассауского? Это мой друг! – Он бросается на шею Ланжерона и тотчас же:
– Говорите по-русски?
– Нет, генерал.
– Тем хуже! Это прекрасный язык.
Он начал декламировать стихи Державина, но остановился и сказал:
– Господа французы, вы из вольтерианизма ударились в жан-жакизм, потом в райнализм, затем в миработизм, и это конец всего.
Своим гениальным умом Суворов прекрасно понимал, какие цели преследует «великая французская революция», в чем ее подлинная сущность и значение. В 1794 году он не перестает жаловаться на бездействие, в котором его оставляют, вместо того чтобы послать «сражаться с французскими цареубийцами».
К своим чудо-богатырям он обращается со следующим призывом: «Побьём французов-безбожников! В Париже восстановим по-прежнему веру в Бога милостивого, очистим беззаконие! Сослужим службу царскую и нам честь! И нам слава! Братцы, вы богатыри! Неприятель от вас дрожит! Вы – русские!»
Понимал масонскую опасность и другой выдающийся человек времён царствования Екатерины – Потёмкин, и противодействовал им.
Потёмкин не давал масонам поблажки, и они ему платили ненавистью.
5 октября 1791 года по дороге из Ясс в Николаев Потёмкин умер. Говорили об отравлении как о причине смерти. Сама Екатерина не была свободна от этих подозрений.
В связи с заговором иллюминатов на Западе против алтарей и тронов и в России возник такой же заговор против Екатерины, который ставил своей задачей свержение ее с престола и провозглашение Павла Петровича, которого масоны захватили в свои сети, а потому считали его своим, масонским императором.
Но эта вполне понятная и естественная интрига была раскрыта.
Следователи установили, что Новиков и его кружок принадлежали к иллюминатству: «Издавали печатные у себя непозволенные, развращённые и противные закону православному книги и после двух сделанных запрещений осмелились ещё продавать оные, для чего и завели тайную типографию. Новиков сам тут признал своё и сообщников своих преступление».Екатерина умерла при крайне загадочных обстоятельствах. На ногах императрицы открылись раны. Авантюрист Лямбро Коцциони, медицинскими советами которого воспользовалась Екатерина, рекомендовал ей ножные ванны из ледяной морской воды, что влекло за собою прилив крови к мозгу и опасность апоплексии.
Зотов поднял шум, сбежались люди, и Екатерину нашли наконец в гардеробной, лежащей без всякого движения, с отекшим лицом, с пеной у рта и предсмертными хрипами в горле.
От чего умерла императрица Екатерина, остаётся неразгаданной тайной. Смерть Екатерины, которая уже приняла было решение ликвидировать масонскую революцию на Западе и поручила привести это решение в исполнение гениальному Суворову, прежде всего нужна была масонам. Мёртвый враг обеспечивал торжество масонских принципов.
Благородный Павел сначала не видел ничего предосудительного и опасного в масонстве. Он верил в порядочность людей. Люди, которые говорили ему о Боге, о морали и справедливости, не могли внушать опасений. Но ужасы французской революции произвели крутой переворот в сознании и душе Павла Петровича, и он, будучи всегда религиозным человеком, усилил своё молитвенное настроение.
Павел I, как истинный император-рыцарь, один из величайших русских монархов, не мог идти на поводу интернациональной безбожной организации вольных каменщиков. Кончина его трагична…
12 января 1801 года Павел отдает приказ атаману войска Донского Орлову идти с донскими казаками в Индию и «атаковать англичан там, где удар им может быть чувствительнее и где меньше ожидают». «Имеете вы, – писал Павел атаману Орлову, – идти и завоевать Индию». Казаки 18 марта 1801 года уже переправились через Волгу и в этот момент получили известие о кончине императора.
При Александре I созрел антимонархический профранцузский заговор, во главе которого стал государственный секретарь М.М. Сперанский, член масонской ложи «Полярная звезда».
Карамзин в своей записке и разговорах убеждал Александра оградить страну от проведения Сперанским реформ, бесполезных и приносящих один только вред. «Охранители» в Сперанском видели вреднейшего революционера, подкапывавшегося под основы всех государственных начал и старавшегося всеми способами дискредитировать царскую власть.
В течение двух лет государь отказывался верить этим слухам и предостережениям. К началу 1812 года враги Сперанского (Аракчеев, Шишков, Армфельд и великая княгиня Екатерина Павловна) убедили государя в правоте всеобщего убеждения в измене Сперанского.
Против Сперанского были выдвинуты следующие обвинения: возбуждение народных масс налогами, разорение финансов и недоброжелательные отзывы о правительстве.
Сперанского совершенно справедливо обвиняли в принадлежности к самой вредной секте ма- 85 сонства – иллюминатству, причём указывали, что Сперанский не только состоит там членом, но является «регентом у иллюминатов».
Под дланью столь высокого сановника интеллигенция чувствовала себя вольготно. Пропаганда масонских принципов лишь усиливалась, несмотря на опалу Сперанского.
Масонами были писатели и члены Вольного общества российской словесности: Фёдор Глинка, Боровков, Жуков, Ильин, Измайлов, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, Де Карьер, Греч, Котляревский, Василий Пушкин и автор «Горя от ума» Грибоедов.
Могучим борцом с тлетворной пропагандой стал архимандрит Фотий, в миру Пётр Никитич Спасский.
При личной встрече с Александром он заявил: «Враги Церкви святой и Царства весьма усиливаются, зловерие, соблазны явно и с дерзостью себя открывают, хотят сотворить тайные злые общества, вред велик святой Церкви Христовой и Царству, но они не успеют, бояться их нечего, надобно дерзость врагов тайных и явных внутрь самой столицы в успехах немедленно остановить».
Под влиянием Фотия появился рескрипт на имя управляющего Министерством внутренних дел графа Кочубея от 1 августа 1822 года, которым было повелено «закрыть все тайные общества, в том числе и масонские ложи, и не позволять открытия их вновь; и всех членов сих обществ обязать, что они впредь никаких масонских и других тайных обществ составлять не будут, и, потребовав от воинских и гражданских чинов объявления, не 86
принадлежат ли они к таким обществам, взять с них подписки, что они впредь принадлежать уже к ним не будут; если же кто такового обязательства дать не пожелает, тот не должен остаться на службе».
О графе Аракчееве либерально-прогрессивная история говорит только плохое. Именно потому, что в годы страшного предательства он стал фактически спасителем России, которую «освободители» тогда уже намеревались превратить в демократическую республику, сделать её добычей инородцев и иностранцев и отдать русских православных в рабство. Речь идёт о заговоре декабристов.
В состав Временного правительства предложили войти и Сперанскому, на это Сперанский будто бы ответил: «С ума вы сошли! Разве делают такие предложения преждевременно? Одержите верх, тогда все будут на вашей стороне!»
Когда же заговор провалился, то Сперанский, хитрый лис, попал в состав Верховного Уголовного суда. Сперанский участвовал в комиссии, составлял доклад, принимал живейшее участие, словом, играл первую роль.
Не испуг руководил Сперанским, когда он принимал назначение быть членом Верховного суда, и не карьерные соображения, а наиболее важное – наказать тех масонов, которые приняли на себя главную роль и не выполнили обязательств перед Орденом, и спасти от жестокого наказания остальных братьев. Главная кара обрушилась на Пестеля.
«Павел Пестель, – пишет графиня Толь, – ставленник высшей масонской иерархии, не су-
87 мел или не захотел, мечтая для себя самого о венце и бармах Мономаха, исполнить в точности данные ему приказания. Много обещал, но ничего не сделал. Благодаря этому он подлежал высшей каре; не следует забывать, что он был «шотландским мастером», что при посвящении в эту высокую тайную степень у посвященного отнималось всякое оружие и объяснение гласило, что в случае виновности от масона отнимаются все способы защиты».
Мятеж в Петербурге произвёл в общей массе населения России потрясающее впечатление – так выражается очевидец. По его словам, «посягательство на ограничение царской власти и на перемену образа правления казалось нам не только святотатством, но историческою аномалией; а народ, видя, что заговорщики исключительно принадлежали к высшему сословию, признал дворянство изменниками, и это прибавило ещё одну резкую черту в той затаенной вражде, которую он питал уже к помещикам. Передовые люди и столичная интеллигенция одни только сочувствовали несчастным безумцам».
Лучшие люди отвернулись от этого дела с омерзением и заклеймили каинову работу масонов-декабристов. По словам Карамзина: «Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Дай Бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ними не так много. Солдаты были только жертвою обмана. Иногда прекрасный день начинается бурею: да будет так и в новом царствовании (Николая I – Ред.) <…> Бог спас нас 14 декабря 88 от великой беды. Это стоило нашествия французов: в обоих случаях вижу блеск луча, как бы неземного».
Благородный и чистый Жуковский назвал декабристов «сволочью».
«Народ, чуждаясь вероломства, забудет ваши имена», – заклеймил масонов-декабристов поэт Тютчев.
А теперь сравните оценки произошедшего 14 декабря 1825 года со стороны деятелей культуры советского и постсоветского времени. Интеллигенция своих не сдаёт! Это у Достоевского хватило ума и сердца по достоинству оценить заговор петрашевцев, о чём мы говорили выше..
Переломная эпоха, в которую правил Николай I, наложила на него неизмеримо тяжёлое бремя. Он правил, когда мировое масонство окончательно утвердило своё господство в Америке и Европе. Это была эпоха, в которую, по меткому выражению Гоголя, «диавол выступил уже без маски в мир».
В России родившееся во время наполеоновских войн поколение избрало своими руководителями не Николая I, Пушкина, Гоголя, славянофилов, а духовных отпрысков русского вольтерьянства и масонства, декабристов, и своим путём – путь дальнейшего подражания Европе.
Николай I избрал более трудный путь: он решил восстановить самодержавие в России и отказаться от традиций Петровской революции. «Вопрос еще, – сказал он однажды, – хорошо ли сделал Пётр I, что отменил некоторые русские благочестивые обычаи. Не придётся ли их восста-
89 новить?» Прежде всего необходимо было восстановить монархию.
«За время от Петра I до Николая I у нас не было монархии. Если мы под монархией будем понимать, прежде всего, арбитраж во всяких внутринациональных трениях, то мы согласимся с тем, что императрицы, попадавшие на трон на гвардейских штыках, никакими арбитрами быть не могли и основных функций монархии выполнять были не в состоянии. С русской точки зрения Екатерина II была чужеземной авантюристкой, пролезшей на трон путем муже- и цареубийства. Ей оставалось идти по течению этих штыков, дабы они не обратились против неё самой. Русские цари, и в особенности царицы, от Петра I до Николая I включительно, были пленниками вооружённого шляхетства, и они не могли не делать того, что им это шляхетство приказывало» (И. Солоневич. Сборник статей. Шанхай, 1942. С. 48).
Ключевский назвал этот период «дворяновла- стием». Известный монархический теоретик Л. Тихомиров написал про этот период в своём труде «Монархическая государственность»: «Нельзя обвинять монархию за то, что было сделано во время её небытия».
Николай I обладал ясным, трезвым умом, выдающейся энергией. Он был глубоко религиозный, высоко благородный человек, выше всего на свете ставивший благоденствие России. Французский дипломат маркиз де Кюстин, живший в Петербурге, писал, что «нельзя отрицать, что Николай обладал выдающимися чертами характера и питает лучшие 90 намерения. В нём чувствуется справедливое сердце, благородная и возвышенная душа. Его пристрастие к справедливости и верность данному слову общеизвестны».
Когда де Кюстин сказал Николаю I: «Государь, Вы останавливаете Россию на пути подражательства и Вы её возвращаете ей самой», Николай I ответил ему: «Я люблю мою страну и я думаю, что я её понял; я вас уверяю, что когда мне опостылевает вся суета наших дней, я стараюсь забыть о всей остальной Европе, чтобы погрузиться во внутренний мир России… Никто не более русский в сердце своём, чем я».
Николай I, действительно, вместе с Пушкиным и Гоголем, был по духу одним из наиболее русских людей своей эпохи.
Идеалом русского правителя для Николая I были не Пётр I, не Екатерина II, не оба эти «великих» правителя, а самый христианский правитель Средневековой Руси, Владимир Мономах. Христианскую настроенность Николая I ярко показывает резолюция, которую он наложил на отчёте министерства иностранных дел, составленном к 25-летию его царствования, перед тем, как передать отчёт наследнику: «Дай Бог, чтобы мне удалось тебе сдать Россию такою, какою я стремился её оставить, сильной, самостоятельной и добродеющей: нам – добро, НИКОМУ – ЗЛО».
Разгром России в Крымскую войну и смерть Николая Павловича открывали для масонства широкое поле деятельности. Смерть императора-рыцаря представители передовой общественности 91 встретили или с предательским равнодушием, или с необузданным восторгом.
«В Английском клубе, – записал в своём дневнике Погодин, – холодное удивление. После обеда все принялись играть в карты. Какое странное невежество».
«Смерть Николая, – писал Герцен, – удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом письмо к императору Александру и решился издавать «Полярную звезду». «Да здравствует разум!» – невольно сорвалось с языка в начале программы. «Полярная звезда» (рылеевская) скрылась за тучами николаевского царствования; Николай прошёл, и «Полярная звезда» явится снова в день нашей великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями».
Наступила, как тогда выражались, «оттепель», но все ждали полной «весны».
Печати был предоставлен полный простор. Университетам разрешено было принимать студентов в неограниченном числе. Вернулись из ссылки декабристы. Оппозиционные и революционные силы подняли голову.
Началась новая страница русской истории, новый её период – период революционный.
Когда польское восстание 1863 года стало свершившимся фактом, Герцен открыто проповедовал пораженчество, приветствовал поляков как борцов за отчизну и требовал сочувствия к ним всего русского общества.
В своей прокламации, распространённой в Москве и Петербурге в конце февраля 1863 года, общество 92
«Земля и воля» подало руку полякам во имя юной России и обратилось к солдатам и офицерам, удерживая их от повиновения.
«Мы с Польшей, – написал Герцен в номере «Колокола» от 1 апреля, – потому что мы за Россию! Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих. Мы с ними, потому что твёрдо убеждены, что нелепость империи, идущей от Швеции до Тихого океана, от Белого моря до Китая, не может принести блага народам, которых ведёт на смычке Петербург».
Польскому движению помогали и русские университеты, в которых под влиянием польской пропаганды происходили забастовки и волнения.
Среди польских революционеров была весьма популярна мысль о достижении победы над русским правительством при помощи распространения смуты внутри России.
Энергичные меры, принятые русской властью к прекращению смуты, вызвали протест со стороны масонов Наполеона III и Биконсфильда с требованием созыва европейской конференции для разрешения польского вопроса.
Император Александр II приказал министру иностранных дел князю Горчакову ответить на это твёрдым отказом на недопустимость постороннего вмешательства во внутренние дела России. Ответ князя Горчакова вызвал среди здоровых элементов русского общества восторженный подъём патриотического чувства. «.Польский вопрос. Какова причина его замалчивания? – писал в это время Маркс. – Причина та, что аристократы и буржуа смотрят на темную азиатскую державу как на последний оплот против рабочего движения. Рабочее движение всегда будет терпеть поражения, пока остаётся нерешённым этот вопрос. Взять на себя инициативу в этом вопросе является долгом рабочего класса Германии.»
Как вы понимаете, «тёмная азиатская держава» – это Россия. А инициативу рабочего класса Германии мы в XX веке увидели дважды: в 1914-м – под руководством императора Вильгельма II и в 1941-м – под предводительством Гитлера. У последнего рабочий класс служил в Вермахте, а немецкие крестьяне служили в более знаменитой организации – «СС»! Заветам Маркса они были верны.
Герцен по поводу патриотического взрыва в русском обществе негодовал. Русское общество отвернулось от матёрого предателя и его соратников по развалу России.
В масонских ложах Парижа и Лондона было принято решение «серьёзно заняться обработкой идеологии русской интеллигенции в гуманитарных целях франк-масонства».
С 1840 года началась пропаганда материализма (Фейербах, Бюхнер, Молешотт, Фохт) и социализма Сен-Симона, Лассаля, того же Карла Маркса. Задача Карла Маркса была вполне конкретной: ошельмовать производственников как капиталистов, демонизировать их, представить их врагами 94
общества и государства и вывести из-под удара истинных капиталистов – банкиров.
Революция 1848 года окрылила надеждой все разрушительные антихристианские силы. Глубокий русский мыслитель В.А. Жуковский в январе 1848 года в письме «Что будет» пророчески предсказал кровавый хаос, который поразит Россию.
«Мы, – писал Жуковский, – живём на кратере вулкана, который недавно пылал, утих и теперь снова готовится к извержению. Ещё первая лава его не застыла, а уже в недрах его клокочет новая, и гром вылетающих из бездны камней возвещает, что она скоро разольётся. Одна революция кончилась, другая вступает в её колеины».
Обработку в нужном для революции духе вели Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Лавров и Михайловский. «Колокол» Герцена свободно передавался из рук в руки, ходил по всей России. Статьи Чернышевского и Добролюбова принимались за откровения. В 1860 году из рядов университетской молодёжи выходит новый пророк молодого поколения – Писарев.
«Позвольте нам, юношам, – писал он в мае 1861 года, – говорить, писать и печатать, позвольте нам стряхивать своим самородным скептицизмом те залежавшиеся вещи, ту обветшалую рухлядь, которые вы называете общими авторитетами».
Чернышевский, Добролюбов и Писарев революционизировали молодёжь и подготавливали кадры разрушителей.
«Нам следует, – писал Добролюбов, – группировать факты русской жизни… Надо вызывать
95 читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху – до того, чтобы противно стало читателю всё это царство грязи, чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азартом вымолвил: да что же, дескать, это за каторга: лучше пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше».
Пушечное мясо революции – студенчество, озлобленное исключениями и репрессиями, резко выступало с протестами и призывами к борьбе.
В это время за границей усиленную деятельность развил среди русских эмигрантов Бакунин. Анархист по убеждению, он проповедовал разрушение вообще государства, насильственную замену его автономным обществом; приглашал молодёжь бросать университеты, вообще занятия и идти в народ готовить разрушение политического и социального строя в России.
По мнению Бакунина, российское самодержавие – оплот всемирной реакции; без разрушения Петербургской Империи не может быть свободы в Европе.
Он верил, что русский народ зажжёт пламя революции, которая пожрёт Россию и своим кровавым заревом осветит всю Европу.
Троцкий ещё не родился. Зато имена революционеров царствования Александра II: Натансона, Аксельрода, Дейча, Аптекмана, Гольденберга, Розенцвейга, Хотимского, Бух, Колоткевича, Фри- дензена, Цукермана, Лубкина, Гайдарова, Бети Каминской, супругов Новаковских, Фелиции Шефтель, Бибергаль, Лурье, братьев Левенталей и т. д. – составили гордость русской революционной истории.
С 1878—1879 годов начался организованный террор – политические убийства. Революционеры рассчитывали напугать ими правительство и принудить его к уступкам.
Дошло до того, что 19 ноября 1879 года террористы пытались взорвать императорский поезд. В 1880 году под царской столовой в Зимнем дворце была заложена и взорвалась мина.
12 февраля 1880 года по настоянию наследника-цесаревича была учреждена «Верховная следственная комиссия» и Лорис-Меликов был снабжён диктаторскими полномочиями, хотя был, как и полагается, гуманистом и либералом и находился под непосредственным влиянием масона Кошелева.
Диктатура началась открытием новых газет, пропагандой и общественным возбуждением. Университеты получили свободу для революционной деятельности.
Лев Тихомиров, раскаявшийся революционер, бывший террорист, прекрасно осведомлённый о событиях и людях царствования Александра II Николаевича, уверяет, что граф Лорис-Меликов обманывал государя и своей «диктатурой сердца» создавал в стране революционное брожение.
Император Александр II утвердил доклад своего министра о конституции 17 февраля 1881 года, а утром 1 марта утвердил и текст оповещения об этой принятой мере, с тем чтобы до его опубликования он был выслушан 4 марта на заседании совета министров.Но в тот самый день, когда доклад граф Лорис-Меликова был подписан, бомба, брошенная террористами, прекратила дни государя.
В своей знаменитой записке, поданной императору Александру III 1 марта 1881 года, русский политический мыслитель Б.П. Чичерин такими словами охарактеризовал создавшееся положение: