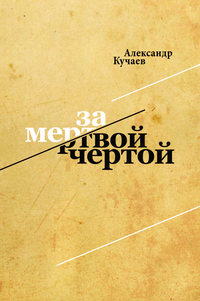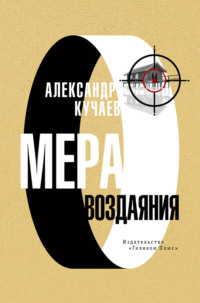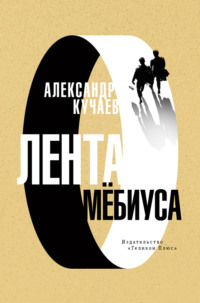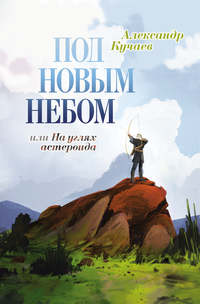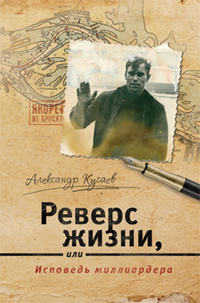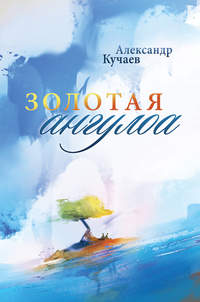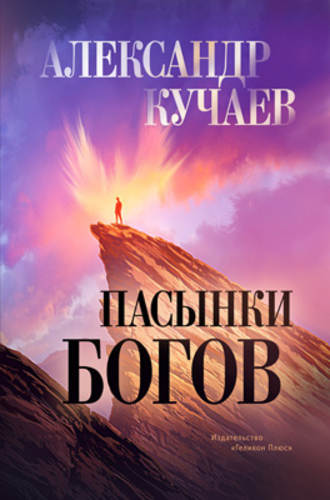
Полная версия
Пасынки богов
Клад я разделил на две части. Одну спрятал на чердаке таверны. В той самой полости под стропильной ногой, где прежде хранилась коробочка из-под «Монпансье». Вторую, большую часть, закопал в винном подвале заведения. В самом его конце, возле задней торцовой стены. Поднял гвоздодёром несколько брусчатых камней, которыми был выложен пол, выкопал ямку, и вот в неё… После чего засыпал тайник вынутым до этого грунтом и водворил на прежнее место брусчатку. Следы работы присыпал песочком и размёл его по сторонам. Им были заполнены углубления между камнями по всей площади подвального пола. Моя маскировка была совершенно неотличима.
При себе я оставил только жемчужное ожерелье, две золотые монеты и пустой ларец, который поставил внизу одёжного шкафа, прикрыв сверху разным тряпьём.
Какие чувства испытывал я при виде богатства, свалившегося на меня?
Не скрою, в первые минуты, ещё в урочище, мною овладело сильнейшее волнение, такое, что трудно было дышать. Что-то тяжкое подступило снизу к груди – вздохнуть было невозможно. Но почти тут же вспомнилась басня Крылова «Ворона и лисица» и слова из неё: «Вещуньина с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье спёрло…» Точь-в-точь как у меня.
Ещё на ум пришёл царь Крез, правитель Лидии, чьё богатство вошло в поговорку. Где он сейчас, этот царь? Что осталось от повелителя древнего государства и его несметного злата и серебра? История рассказывает, что лидийское царство было завоёвано персами, а сам царь пленён. Выходит, не помогли Крезу его сокровища.
Также в сознании всплыл разговор Креза с мудрецом Солоном. Именно тогда великий мудрец произнёс знаменитую фразу, что «никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти».
Поэтому успокойся, сказал я себе, ещё неизвестно, какое счастье принесёт тебе злобинский клад и принесёт ли вообще!
Одно лишь отложилось у меня: да, золотые монеты и украшения могут гарантировать обеспеченное будущее и исполнение планов. Но только если ими расчётливо, грамотно распорядиться. Не трезвонить по их поводу. Полное молчание! Ни одной душе ни-ни!
Той части денег, что Эльдигер вручил мне за перстень, хватило ненадолго. Во-первых, я купил себе вполне приличный костюм к наступающему учебному году. Во-вторых, подарил матушке подержанную, но вполне добротную швейную машинку – она умела и любила шить. А отцу преподнёс торшер. У моего Егора Яковлевича была привычка читать перед сном. С торшером же как было удобно: протянул руку, щёлкнул выключателем – и баиньки. В-третьих, я обзавёлся новыми наручными часами взамен старых, которые утопил, рыбача с лодки. И осталось у меня наличных трень-брень да маленько.
На вопросы родителей, откуда деньги, сказал, что половину заработал, помогая Розе Глебовне в её таверне, а вторую половину выручил от продажи рыбы. Такой ответ их устроил, и больше они не приставали.
Жемчужное ожерелье словно обжигало сквозь ткань кармана, и мне не терпелось поскорее избавиться от него. Следуя пословице не класть все яйца в одну корзину, я отправился не в «Золотое руно», а в конкурирующий ювелирный магазин. Но царившая в нём атмосфера обмана подсказывала, что меня постараются облапошить и выпроводить вон с сущими грошами. Тогда я посетил второй магазин, торгующий золотыми украшениями, затем – третий. А в итоге вновь оказался у Соломона Давидовича.
– Шестое чувство таки подсказывало мне, что молодой человек опять принесёт нашему предприятию какую-нибудь редкостную красоту, – сказал ювелир, когда я вошёл в его заведение. – Полагаю, оно не было ошибочным. Итак, что у нас на этот раз? Вы же пришли не ради лицезрения моей персоны?
Я положил перед ним украшение.
– Ого! – воскликнул торговец, не сдержав эмоций.
Не буду рассказывать о способах, посредством которых Соломон Давидович оценивал качество жемчужин. Все они исчерпывающе описаны в том же Интернете.
– Юноша, вы меня удивляете! – вскричал торговец. – Где вы берёте такие чудненькие вещички? Может, опять на речке? Однако зачем я спрашиваю, вы же всё равно не скажете. Или всё-таки скажете?
– Нет, в этот раз не скажу. Зачем вам знать?
Соломон Давидович назвал цену, которую готов заплатить за ожерелье. И минут пять объяснял, почему именно столько. По его словам выходило, что исключительно из-за достоинств украшения.
– Надеюсь, наше взаимовыгодное сотрудничество так и будет продолжаться, – вновь, как и в первый мой визит, сказал он на прощанье.
– Я тоже надеюсь на это, – ответил я совершенно в той же тональности.
Мне удалось безошибочно прочитать мысли хозяина магазина. Он был не только абсолютно честен со мною. Его интересовал сам процесс развития наших деловых отношений и то, во что они в конце концов выльются.
Сумма, вырученная от продажи ожерелья, потрясала воображение; при мысли о деньгах, которыми я теперь располагал, кружилась голова. И мне вновь и вновь приходилось вспоминать о Крезе и вороне с сыром, чтобы успокоить себя таким способом.
Почти всё вырученное от продажи опять осталось у Соломона Давидовича – по моему предложению и с полного одобрения партнёра по бизнесу. Так было надёжней, считал я. С собой же я взял лишь несколько банкнот среднего достоинства на текущие расходы.
Думал ли я о том, чтобы отнести найденные сокровища в милицию или прокуратуру? Конечно, думал. Но в памяти всплывала не такая уж давняя история о том, как один рабочий, найдя клад серебряных монет при ремонте общественного здания, понёс его в ольмапольский отдел милиции, с тем чтобы зарегистрировать и получить причитающуюся по закону долю стоимости находки.
Однако кончилось тем, что милиционеры присвоили монеты себе. А в ответ на протесты рабочего, отходили его резиновыми дубинками и выгнали вон. Слухи об этом случае докатились и до нашего Чукалина.
Подобная участь мне ни к чему. Да и огласка моего имени была недопустима. Я со своими драгоценными находками должен был оставаться в тени.
И всё же мысли о нечестности по отношению к государству не давали покоя. Одно дело перстенёк, поднятый со дна реки, и совсем другое – ларец, полный золота. «Мошенник, мошенник, – вертелось в голове. – Ты ничем не отличаешься от обычных жуликов и воров».
Промучившись несколько дней, я достал из чердачного тайника пятьдесят золотых монет и понёс их в участковый пункт милиции. Чтобы в случае благополучного завершения затеи со сдачей принести всё остальное.
Капитан по фамилии Тапызин, сидевший в участке, спросил, откуда они у меня? Я сказал, что нашёл в тайнике Злобинского урочища.
– Здесь всё золото, или сколько-то ты оставил в загашнике? – понижая голос и дружески улыбаясь, спросил милиционер.
Его намерения прочитались, словно буквы на световом экране, и я понял, что не видать мне ни монет, ни вознаграждения.
Так оно в итоге и получилось.
– Это всё, что находилось в тайнике, – сказал я, сохраняя спокойствие. – Больше ничего не было.
– Точно не было? Или… Мы можем устроить проверку на детекторе лжи.
– Гром убей, не вру! Всё, что нашёл, принёс вам. Как и положено по закону. Я честный человек, любого, кто меня знает, спросите.
– Ладно, ладно, не распинайся.
Тапызин оформил акт о приёмке клада и пообещал отправить его в соответствующие инстанции. Только мои монеты затерялись где-то в недрах государственной машины; не исключено, что офицер зажал их, а бумажку с актом приёма изорвал и выбросил в мусорную корзину.
Позже я несколько раз приходил в участок, чтобы узнать о полагающемся вознаграждении, но капитан лишь пожимал плечами и говорил, что это дело нескорое и надо ждать. Спустя три месяца его перевели на новое место службы, и на нашем участке оказался другой милиционер, в звании старшего лейтенанта.
Судьба сданных монет так и осталась для меня тайной. Видения же, витавшие в голове на этот счёт, вполне могли быть ничем не обоснованными домыслами.
В конце концов я обругал себя за наивность и решил забыть дорогу в милицию. Хорошо ещё, капитан Тапызин не стал докапываться до основной части клада, по сути, я отделался малой кровью.
Казус со сдачей царских империалов и червонцев послужил мне уроком на всю жизнь.
Уже немало возникало ситуаций с находками тех или иных «посеянных» вещей или тайников с ценностями. И для этого не надо было напрягать мозговые извилины – всё как бы само шло мне в руки. Или наоборот, Провидение подводило меня к злату и серебру и получалось так, что я как бы случайно натыкался на них.
Вновь и вновь вспоминались мне первые удачи в плане определения местонахождения пропаж: и матушкин крестик в предбаннике, и забытый отцовский запасец между книжными страницами. И последующие, уже в Ольмаполе: банковская карточка под автомобильным ковриком, чердачная коробка «Монпансье», перстень со дна реки, клад злобинского урочища. Наконец – единичная серебряная монета с царским профилем.
Однако некоторые сомнения в способности находить те или иные драгоценности всё ещё оставались, не давая покоя. Поэтому я решил проверить себя ещё раз. Чтобы окончательно увериться в себе.
Хорошо бы, подумалось мне, напасть не на стародавний клад, а на что-нибудь более современное, например на портфель или чемодан с деньгами. Вот было бы здорово!
Но что, если я найду наличные, а они окажутся бандитским общаком? От продажи наркотиков, допустим.
Тогда сии дензнаки будут опасными и лучше с ними не связываться. И вообще они грязные по своему происхождению и… Брр! Одна мысль о наркотиках и о том, что они делают с людьми, вызывала отвращение. «Ну мы там посмотрим, как ими распорядиться, – сказал я себе, – обстоятельства покажут».
И надо же, судьба – или Высшая сила, Провидение? – в очередной раз пошла мне навстречу, правда, попутно изрядно посмеявшись надо мной.
Случилось так, что тёте Розе понадобилось срочно отправить какой-то документ одному из нотариусов соседнего города Невольска. Никого из взрослых в тот момент под руками у неё не оказалось, и она поручила доставку мне, наказав, чтобы в дороге я вёл себя осторожно и после передачи бумаги указанному должностному лицу немедленно возвращался в Ольмаполь.
До Невольска быстрее всего в этот час можно было доехать проходящей электричкой. Купив билет, я прошёл в полупустой вагон, сел на жёсткую деревянную лавку возле тамбура и почти сразу же обратил внимание на тёмную холщовую сумку, прислоненную к стенке у окна.
Сумка явно не была пустой. Поколебавшись с полминуты, я взял её за лямки и посмотрел внутрь. На дне мягкой ёмкости лежал прозрачный полиэтиленовый пакет, сквозь синеву которого проглядывали… пачки банкнот. Я взял одну из них. Это были сотенные денежные знаки – долларовые. На кольцеобразной упаковочной бумаге было написано «10 000» И символ «S» с двумя вертикальными палочками. Тринадцать пачек. В голове мгновенно сложилась сумма…
Почувствовав чей-то взгляд, я поднял глаза. На меня в упор смотрел парень лет двадцати, сидевший на противоположной скамье.
– Откуда они у тебя, малец? – спросил он с заметным напряжением.
– Да вот, лежала на сиденье, – растерянно проговорил я. – Забыл, видать, кто-то.
– И сколько в ней?
– Сто тридцать тысяч.
– Сто тридцать!
Кажется, сосед по вагону подавился слюной. Он вдруг закашлялся, вскочил на ноги, покачнулся и неловко повалился на меня; его предплечье надавило мне на лицо, ладони ощутили едва заметный рывок.
Когда я осознал, что происходит, парень уже пересекал тамбур. В руках у него была та самая холщовка. Я приподнялся было, чтобы броситься за ним, и… снова опустился на лавку. Эти деньги не мои, так стоит ли их спасать?
Двери вагона захлопнулись, поезд тронулся.
Воришка остался на уплывающем перроне. Мы встретились взглядами. Он весело улыбнулся, помахал мне рукой и бодро зашагал к дверям вокзального здания. Я успел улыбнуться в ответ и тоже помахал ему, причём радостно. На душе у меня было легко и светло.
– Вон она, сумка! – донеслось сквозь открытую фрамугу окна. – Держите его!
Из-за торговых палаток с той стороны, куда двигался поезд, выскочили трое бегущих мужчин. Незадачливый похититель сразу всё понял и повернул назад, но оттуда навстречу ему бежали ещё двое. Послышались какие-то неразборчивые крики. Я успел увидеть взмах резиновой дубинки, падающую фигуру вора, и набравшая скорость электричка скрыла продолжение эксцессивного действия, его развязку.
«Значит, так было уготовлено свыше – мысленно проговорил я, вольготно откидываясь на спинку сиденья. – И вообще: нашёл – не радуйся, потерял – не плачь».
Всё нормально, ничего не приобретено и не потеряно. А сто тридцать тысяч баксов… Повторяю – это были чужие деньги. Судьба позволила мне лишь несколько секунд подержать их в руках.
За окном хмурилось, и едва электричка вышла за пределы станции, хлынул ливень, продолжавшийся почти всю дорогу. По окну струились потоки воды, а я думал о временности тела и бессмертии души. И опрометчивости отдельных граждан.
В Невольске я быстро отыскал нужную нотариальную контору, вручил тёти-Розин документ секретарю и отправился к автостанции, откуда обратный путь можно было проделать опять же быстрее.
Когда билет на ближайший рейс до Ольмаполя был уже у меня в кармане, я купил бутылку газировки, прошёл в расположенный рядом скверик и присел на скамью. До отправления автобуса оставалось больше получаса.
Один глоток довольно приятного прохладительного напитка прямо из горлышка бутылки, второй, и… взгляд уловил необычный зеленоватый перелив в зелёной же траве напротив, в двух шагах за бордюром дорожки. Так могло сверкать разбитое стекло. Его полно кругом. Те же пивные и водочные бутылки бьют и раскидывают, где попало, разные неряхи и морально тёмные люди – как взрослые, так и дети.
Ещё один взгляд за бордюр, и опять тот же мягкий, нежный перелив. Вспомнились сияние перстня на Мелких песках и мои способности к нахождению драгоценностей.
Не теряя из виду изумрудный огонёк, я медленно поднялся со скамьи и пересёк дорожку.
Это была какая-то странная вещица, виднелся лишь медно-жёлтый краешек её, большая же часть скрывалась в чёрной перегнойной почве. Вот мы сейчас… Несколько осторожных освобождающих движений – и источник сияния у меня в руках. Это был миниатюрный золотой гребень, инкрустированный изумрудами и бриллиантами.
О да, драгоценные вещицы чуть ли не сами шли мне в руки!
Приподняв голову, я огляделся. В скверике пусто. Лишь в отдалении на автостанции о чём-то переговаривались между собой несколько пассажиров, томившихся в ожидании рейса. Ни одного подозрительного взгляда в мою сторону.
По прибытии в «Таверну Кэт» я доложил тёте Розе о выполнении поручения и сразу же отправился к своему ювелиру.
– Полагаю, что это гребень известного мастера Филаретова, – сказал Соломон Давидович, внимательно изучив украшение. – Изготовлен по специальному заказу в конце восемнадцатого века. Украшение принадлежало графине Барятинской. Это был подарок её мужа, знаменитого графа Барятинского, богатейшего царского придворного. Но затем гребень был похищен или утерян при путешествии графини по Ольме. Где вы взяли его, молодой человек?
– Нашёл.
– Не скажете, где нашли?
– Отчего же, скажу. В Невольске. Лежал в траве привокзального парка. Только что прошёл сильный дождь, и, должно быть, украшение вымыло из почвы струями воды. Я оказался в нужном месте в нужное время.
– Надо же! А ведь графиня Барятинская действительно останавливалась в Невольске и провела в нём почти сутки. История её путешествия описана в хронологиях того времени.
Прочитав небольшую лекцию о гребнях как произведениях искусства, владелец «Золотого руна» назвал цену за украшение. Она вполне меня устроила.
Как и во всех предыдущих случаях, деньги от продажи украшения, основная их часть, остались у Соломона Давидовича. Он использовал их в финансовых операциях с начислением соответствующих процентов, довольно значительных, и мои банковские счета неуклонно возрастали. Обо всём, что происходило с моими депозитами, ювелир неизменно мне докладывал при каждом посещении его заведения.
Моё состояние росло и стало как бы частью меня. И ещё я проникся уверенностью, что сумею им распорядиться с наибольшей пользой себе и обществу.
Никто не знал о наших с ювелиром деловых отношениях. Никому не было ведомо, что худенький и физически не очень сильный мальчишка обладает поистине сказочным богатством.
Таковым оно представлялось мне в сравнении с достатком людей, среди которых я в ту пору вращался. Самой обеспеченной из них была Роза Глебовна. Но и она многократно уступала мне; если бы я купил её таверну три раза подряд, на моих счетах ещё оставались бы многомиллионные средства.
Глава одиннадцатая. Кирзовые сапоги
Наступило то главное, ради чего наша семья переехала в Ольмаполь.
Первого сентября я снова пошёл в школу. Номер двадцать. Действительно, до неё было пять минут пешего хода.
В классе, в который меня зачислили, насчитывалось тридцать два ученика. И среди них, к радости моей, Гриша Калитин и Антошка Файзулин.
Они начали знакомить меня с другими мальчиками – в первую очередь со своими приятелями. В этот момент вошла учительница математики Римма Владимировна, наша классная руководительница – я уже знал её, – и среди прочего объявила, что я новый ученик, что звать меня Максим Журавский, и указала мне место за одним из столов.
Моей соседкой оказалась та девочка, которую я видел в окне терентьевского дома при знаменитой разборке между Шкворнем и его отцом.
– Агриппина, – представилась она. – Для друзей – просто Груня.
– Я узнала тебя, – сказала девочка, когда я в свою очередь представился. – Это ты был тогда. Помнишь, год назад, в конце августа, мой брат Шурка выступал на улице? У тебя ещё удочка в руках была.
– Ещё бы не помнить! Разве забудешь: «Когда вырасту, я всех вас удавлю!»
– Давай так: о том, что было в тот раз перед нашим домом, – никому ни слова. Договорились?
– Ладно. Мне-то что.
– Или уже разболтал?
– Да нет. А из-за чего ваш отец со Шкворнем так схватились?
– Из-за торта. Отец купил маме торт на день рождения, а Шурка, пока дома никого не было, слопал его чуть ли не весь, скотина.
От остальных учениц Груня отличалась заметной крепостью тела и редкостной ладностью его. И у неё были зелёные-презелёные глаза с удивительным синим отсветом, такие, что… Они словно привораживали. И ещё из-за них немножко терялся рассудок.
– Чего уставился? – с усмешкой буркнула девочка. – Нечего на меня пялиться. Зелёных глаз не видел?
– Таких, как у тебя, – нет, не видел.
– Всё равно – нечего.
– Ладно.
Первого сентября была торжественная линейка, краткие выступление директора и лучших продвинутых учеников, затем урок мира. Учителя делали всё, чтобы создать благоприятный психологический климат и настроить ребят на учёбу.
Утром следующего дня я пришёл в класс раньше всех. За мной появилась Груня. Молча кивнули друг другу и сели за свой стол.
Вспомнив вчерашний разговор о зелёных глазах, я улыбнулся, склонил голову и увидел нечто, заставившее меня согнать улыбку и задуматься о прозе жизни. На ногах Груни были кирзовые сапоги. В подобной обуви поздней осенью или ранней весной, в самую слякоть, ходил мой отец. У меня тоже были кирзачи. Для дождливой погоды. И у всего мужского народонаселения Чукалина.
Но чтобы кирзуху надела городская девочка, да ещё в школу! Было чему удивляться.
– Чего уставился? – опять, на этот раз с вызовом, спросила Груня. – Кирзовых сапог не видел?
– Почему не видел! У меня самого такие есть.
Что и говорить, весь класс обратил внимание на необычную обувь Агриппины Терентьевой. Только своего удивления никто открыто не показывал. Как я уже понял, характер у девочки был ещё тот и связываться с ней остерегались. Однако за её спиной несколько ухмылок и ироничных взглядов всё же промелькнуло.
Четвёртым уроком была физкультура. На спортплощадке, под открытым небом. Сначала мы выполняли разминочные упражнения на лужайке возле беговой дорожки, затем пошли основные на спортивных снарядах.
Все ученики были в кроссовках и кедах, одна лишь Агриппина выделялась кирзовыми сапожищами.
В числе упражнений было подтягивание на турнике. Гриша Калитин подтянулся одиннадцать раз, Антошка Файзулин – семь, я – четыре, меньше всех из мальчишек.
Настала очередь Агриппины. Учитель физкультуры Павел Андреевич приподнял девочку под мышки; она ухватилась за перекладину, повисла, и её «сапожки» предстали на всеобщее обозрение: несоразмерно большие, далеко не новые, со стоптанными каблуками и протёртыми до дыр голенищами.
Кроме нас на площадке занимались ещё ученики параллельного класса. Едва моя соседка оказалась на турнике, от них донеслись громкие смех и крики: «Посмотрите, какие у Груньки онучи! Да, обувка ещё та, на свалке, видать, подобрала! Ребята, сбросимся по пятаку, купим Груняшке приличную обувь».
Павел Андреевич строгим взглядом и окриком моментально приструнил ерников и ободряюще посмотрел на владелицу сапог. Однако Агриппина никак не отреагировала на оскорбления – бровью не повела.
Подтянувшись три раза, она легко спрыгнула на землю и с непроницаемым видом присоединилась к одноклассникам.
Но унижения не забыла, и как только урок закончился и классы потянулись к зданию школы, догнала самого ретивого мальчика, особенно злорадствовавшего по поводу её сапог, и наградила его хорошей оплеухой. Сила удара была такова, что шутник повалился наземь.
– Терентьева, что ты делаешь?! – учитель вскипел в негодовании. – Разве девочка может так себя вести!
– Дураков надо учить, – флегматично ответила Агриппина. – Это ему на будущее. Чтобы держал свой грязный язык за зубами.
По окончании уроков мы с ней вместе пошли домой. Поймав мой взгляд, случайно скользнувший по кирзовым сапогам, девочка сказала:
– Что поделаешь, у меня туфли развалились. От изношенности. Только на первое сентября и хватило. Подошва оторвалась и… Я показала отцу. Он сказал, что денег на новую обувь нет и чтобы я надевала в школу его сапоги. Я и надела. Как считаешь, правильно я сделала?
– Я?
– Ну да, ты, я же тебя спрашиваю.
– Не знаю, как бы я поступил на твоём месте. Только давай…
– Что?
– Давай не пойдём сейчас домой, а…
– Если не домой, то куда? – Груня подкинула портфель и поймала его обеими руками.
– В универмаг, – сдержанно проговорил я.
– Зачем?
– Затем, чтобы купить тебе новые туфли.
– А где денежки на обновку?
– Деньги есть, не беспокойся.
Я достал из внутреннего кармашка бумажный пакетик, развернул его и показал пачечку крупных банкнот, выданных Эльдигером.
– Ба, сколько! Напечатал, что ли?
Груня рассмеялась и мазнула ладошкой мне по затылку.
– Ага, напечатал, – сказал я с приколом.
– Откуда тогда?
– Нашёл! Нашёл, вот и всё.
– Так я и поверила!
– Не верь, дело твоё, только я не вру. В некотором роде… нашёл.
– Ладно, не объясняй, пусть будет, как ты говоришь, – сказала Груня, и мы отправились в ближайший универсальный магазин.
В обувном отделе она примерила красивые туфельки – самые дорогие.
– Насчёт цены не беспокойся, – сказал я, заметив её взгляд, брошенный на ярлычок. – Бери всё, что только понравится.
– Ладно. А не пожалеешь?
– О деньгах? Нет, нисколечко.
Мы пошли по этажам и купили для неё платье, плащ, демисезонное пальто, зимние сапожки, спортивные тапочки и много что ещё. Даже кокетливую шляпку взяли – такие головные уборы, по нашему провинциальному разумению, были по карману только особо богатым дамам.
– Как же я буду с тобой расплачиваться за всю эту роскошь? – спросила Груня, когда мы вышли из магазина с полными пакетами покупок. – Если думаешь, что натурой, то ошибаешься – можешь забрать свои шмотки и девать, куда хочешь.
– Ничего я не думаю, – ответил я, чувствуя, как по лицу разливается горячая краска стыда. – Расплатишься потом. Деньгами. Или какой-нибудь услугой.
– Потом – это когда?
– Да всё равно когда. Пусть через год или два. Или когда вырастешь.
– Значит, с расплатой можно не спешить. А что за услугу имеешь в виду?
– Не знаю. Там видно будет. Но в любом случае не продажную. Лучше скажи, как дома объяснишь, что у тебя столько барахла появилось? На какие шиши!
– Ой, я как-то не подумала об этом.
– Вот и я не подумал.
– Всё элементарно! – с восторженной улыбкой воскликнула Груня немного погодя. – Скажу, что нашла клад. Ещё лучше – что нашла бумажник с деньгами! Нет, не бумажник, а целлофановый пакет! И получится, будто денежки нашёл не ты, а я. И никому ничего объяснять больше не придётся. Ну что, по домам?
– Погоди, давай ещё зайдём в пошивочную мастерскую. Пусть тебе подгонят кое-что из купленной одежды. Мне кажется, пальто надо немного приталить.