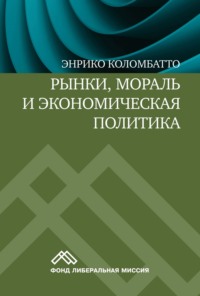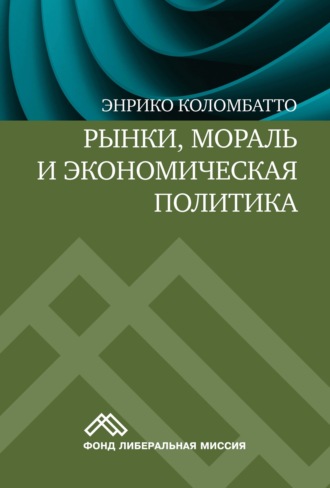
Полная версия
Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к защите экономики свободного рынка
В XI столетии в некоторых регионах Западной Европы начал появляться средний класс, состоявший из торговцев и мелких ремесленников. Этот процесс сопровождался новым отношением к труду, который более не означал чего-то постыдного, а становился признаком христианской добродетели (т. е. теперь добродетель делала легитимным денежное вознаграждение). Однако, как было отмечено выше, купцы по-прежнему вызывали подозрения. Это отношение начало меняться только в XV–XVI вв., когда осуждению перестала подвергаться всякая коммерческая деятельность, и критика сосредоточилась на недолжном поведении «плохих» купцов, прегрешения которых состояли либо в том, что они предрасположены к жадности и отказу от благотворительности, либо, что было более широким обвинением, в том, что они предрасположены к разрушению священного порядка этого мира: «Точно так же, как купцы являются одними из лучших членов нашего общества, делая многое для его благосостояния, они могут быть и самыми худшими, если над ними не будет учреждено надлежащего надзора и если их не будут принуждать к поддержанию добрых порядков» (Томас Грешэм, 1560 г., цит. по [Heckscher, 1994, vol. II, p. 320]). Это отношение было характерно и для католической церкви, и для лидеров Реформации[27].
Вплоть до эпохи распространения кальвинистских и, что более важно, пуританских идей было довольно мало мотивов для того, чтобы воспринимать экономическую компоненту жизни как нечто важное. Жизненный опыт представлял собой нечто статичное, а на саму жизнь часто смотрели под эсхатологическим углом зрения, поскольку она трактовалась как промежуток времени, данный индивиду для приготовления к смерти и достижения спасения, и, соответственно, возможностей осознать собственные земные устремления было значительно меньше, чем в другие эпохи. Как отмечал Тауни, «великий факт социального порядка был усвоен, усвоен во всей его внезапности и жестокости. Они приняли его с изумлением и покорностью, и за редким исключением у них не возникало вопроса о восстановлении того, что было прежде»[28](см. [Tawney, 1926, p. 22]). Даже после окончания эпохи Средних веков в общем и целом «ожидания человека на протяжении всей его жизни определялись тем местом в обществе, которое он занимал по факту своего рождения» (см. [Knights, 1937, p. 27]). Экономическая деятельность была необходимым условием выживания как в качестве индивида, так и в качестве члена сообщества (поскольку следствием богатства часто были более широкие возможности по защите от агрессии). Однако в основе экономической деятельности той эпохи лежала мелкая торговля, имевшая местный характер, или деятельность семейных «фирм», основой которых было отдельное семейство и функционирование которых должно было быть вписано в общие правила местного сообщества, ориентированного не на эффективность, а на поддержание стабильности. Более того, для подавляющего большинства населения перспективы и возможности улучшения материального положения были ограниченными: среднегодовые темпы прироста экономики в Западной Европе в 1500–1820 гг. составляли 0,14 % (в терминах ВВП на душу населения), что для индивида означало увеличение его уровня жизни за 30 лет всего на 4 % (данные и расчет см. в [Madison, 2005]). Вариант, при котором человек вместо продолжения того, что он делал, начинал делать что-то иное, рассчитывая на лучшее, сулил слишком малое вознаграждение, тогда как издержки, связанные с тем, что что-то пойдет не так, могли быть чрезвычайно высоки (голодная смерть).
Все вышесказанное не отрицает ни существования также и безличной торговли (т. е. торговли, не ограниченной кругом родственников и соседей), ни наличия капиталистического духа. История полна соответствующих примеров, от итальянского и фламандского Средневековья (XII и XIV вв. соответственно), не говоря уже о возвышении Нидерландов и Англии в XVII столетии. Эти примеры показывают, что капитализм и экономическая деятельность существовали вполне реально даже в те времена, когда преобладала культура, ориентированная на сообщества, а не на отдельных индивидов. Тем не менее повсеместно господствовало убеждение, что обязанности индивида по отношению к сообществу стоят выше его собственных предпочтений, и что производство и обмен, выходящие за пределы того, что необходимо для поддержания личного прожиточного минимума, могут быть оправданы только если они соответствуют целям сообщества. Далеко не случаен тот факт, что экономическая деятельность с большей легкостью вышла на первый план в тех регионах мира, где власть была децентрализована, где было труднее ограничивать мобильность людей и где было сложнее поддерживать фиксированную иерархическую структуру. Принцип, в котором объединяются все эти свойства, называется терпимость, впервые он был реализован на практике в Нидерландах в конце XVI столетия, послуживших предметом подражания в Англии спустя несколько десятилетий. «Прежде всего, веди себя согласно своему роду занятий и не слишком пытайся многое менять. Ибо многих из-за их греховного честолюбия постигала судьба заблудших» (Fyrste walkein thy vocation, and do not seke thy lotte to change; For through wicked ambition, many mens fortune hath ben straynge)[29]. Таким образом, соответствие предустановленному и священному космическому порядку было едва ли не нормативным требованием. Не имело значения, был ли этот порядок слишком сложным для осознания. Важно было не действовать такими способами, которые могли бы обернуться разрушением этого порядка. Тиллиярд (см. [Tillyard, 1943], в особенности главы 2–4) приводит свидетельства в пользу того, что такая забота о божественной гармонии была типична и для Англии XVI в., когда «та часть христианского учения, которая тогда доминировала, представляла собой вовсе не жизнь Христа, но ортодоксальную схему восстания падших ангелов, сотворения, искушения и падения человека, воплощение, искупление и духовное возрождение посредством Христа» [Tillyard, 1943, p. 26].
Иначе говоря, за примечательным исключением испанских схоластов на континенте и Томаса Мэна и Эдварда Миссельдена в Англии, вплоть до конца XVII столетия экономические вопросы не предполагали необходимости углубленного изучения и адекватного понимания[30]. Экономическая деятельность трактовалась как данная: ее природа и ее последствия заслуживали должного изучения только с точки зрения морального одобрения и политического контроля. Те, кто имел дело с экономическими явлениями, не видели необходимости в систематическом изучении причинно-следственных связей, посредством которых индивиды побуждаются к обмену и изыскивают способы увеличения своего богатства (или, как сказали бы мы сегодня, удовлетворения своих потребностей). Индивидуальные действия, направленные на улучшение материальных условий жизни, изучались с некоторым опасением – так, как если бы они могли быть источником потенциальных общественных потрясений. Это неудивительно. Как писал Эпплби, имея в виду несколько более широкий контекст: «Понимание того, что экономические отношения представляют собой элемент естественного порядка, опирается на концепцию определенной базовой регулярности, которая делает возможным объяснения и прогнозы. <…> И пока не появились люди, например, такие, как люди шекспировских произведений, т. е. создания, движимые разумом и страстями, или такие, как у авторов Реформации, ведущие сражение между своей „падшей природой“ и „способностью к спасению“, эти объяснения и прогнозы не имели под собой твердого основания, необходимого для того, чтобы на нем утвердился естественный общественный порядок»[31] [Appleby (2004 [1978]: 258)].
В ту эпоху, пожалуй, осуществлялись экономические исследования, но они имели более, если можно так выразиться, технический характер. Они были порождены интересами государства или государя, искавших новые способы увеличения налоговых поступлений и вмешательства в монетарную сферу с целью увеличения сеньоража, который был следствием принуждения к использованию узаконенного средства платежа. Типичными примерами здесь могут служить эксперименты, проводившиеся Жан-Батистом Кольбером и Джоном Ло в правление Людовика XIV и Людовика XV соответственно. Насколько нам известно, после Вестфальского мира (1648) становилось все более очевидно, что международные отношения, существовавшие в виде отношений между государями, заменяются на отношения между национальными государствами, и войны и военные технологии потребуют финансовых обязательств всей страны, а не только личной казны того, кто в данный момент является монархом. Тогда же быстро становилось очевидным, что сила, необходимая для подчинения подданных и контроля над внутренними неурядицами, зависит от богатства страны, а богатство страны не зависит напрямую от количества доступной земли. Осознание этого обстоятельства также совпало с периодом системного финансового кризиса, поразившего Европу и в особенности Францию, когда в конце XVII столетия правители оказались более не в состоянии прибегать к принудительным займам и конфискациям. Следовательно, все более интересным становилось изучение законов, определяющих операции и трансакции, предполагающие создание и распределение дохода по категориям владельцев ресурсов (земли, сырья, основного капитала), и экономические исследования начали цениться.
2.3. Экономическая наука до маржинализма: естественные законы встречаются с производством
В XVIII столетии господствующая традиция естественного закона столкнулась с необходимостью увеличения производства большего богатства. В сущности, хотя религия явным образом отвергала любое влияние морали на экономическую сферу, большинство «экономистов» были согласны с тем, что наука политической экономии[32]служит инструментом понимания того, каким образом Провидение и Природа наделили человека ресурсами, которые дают возможность творцам политики преследование общего интереса, понимаемого и в материальном, и в моральном аспектах. Адам Смит продвинул дело дальше, развив утверждение Такера, согласно которому коммерческая деятельность представляет собой часть божьего замысла[33]. «Политическая экономия, понимаемая как отрасль знания, необходимая государственному деятелю или законодателю… ставит себе целью обогащение как народа, так и государя» [Smith (1776), 1981, p. 428], [Смит, 2007, с. 419].
И хотя эта точка зрения не слишком отличается от того, в чем видит свое назначение нормативная экономическая наука и сегодня (достижение общих целей), именно в XVIII в. стало очевидно: для того чтобы помогать государю увеличивать его богатство и власть, усилия должны направляться к открытию вечных (объективных) законов обмена, производства и распределения, определяемых природными явлениями (и схожих с этими законами). В то же самое время делу определения «справедливого» состояния дел и последующему приближению к такому состоянию должны были помочь рассуждения об «инстинктах добродетели» (существовавшая тогда версия закона природы), с тем чтобы распознавать ситуации, когда человеческая иррациональность не позволяет природе следовать своим путем, обеспечивая желаемые результаты. Этот путь, ведущий к цели, должна была указать религия.
«Естественный ход вещей не может быть совершенно изменен его [человека] слабыми силами… религия укрепляет естественное чувство долга. Вследствие этого, глубоко религиозные люди вообще вызывают большее доверие к своей честности» [Smith (1759), 1982, p. 168], [Смит, 1997, с. 170, 172].
Эта установка ученого объясняет, почему классическая традиция не предусматривает существования частных дисциплин, на которые подразделялась бы общая экономическая теория[34]: все экономические проблемы по необходимости находят место в терминологической системе общего (естественного) равновесия, поскольку лишь общий подход может позволить формулировать выводы в терминах природных явлений. К тому же поиск общих законов подразумевает необходимость понимать логику (механизм) процессов сельскохозяйственного производства (действие) и торговли (взаимодействие), причем для этого нет необходимости учреждать какую-либо более дробную специализацию. В действительности частные дисциплины приобретают важное значение, только если изучаемые действия (и взаимодействия) относятся к различным сферам, для каждой из которых характерны свои особенности, зачастую имеющие разную природу.
Воззрения XVIII в. проливают свет также и на ту роль, которую играла доктрина laissez faire, название которой, хотя и восходит к реакции Тома Лежандра на политику государственного вмешательства Кольбера, но в большей степени отражает настоятельное стремление де Гурнэ, требовавшего, чтобы природе позволили свободно следовать своим путем[35]. Заключительное замечание (последнее по порядку, но, возможно, первое по важности) состоит в том, что такой взгляд на равновесие, сложившийся в XVIII в., объясняет, почему экономическая наука и в XIX в. сохранила это понятие (гипотетическое идеальное естественное состояние), и почему при реализации мер экономической политики становились все больше востребованными в качестве необходимых и оправданных такие способы восстановления «стабильности», которые требуют действий по ограничению, исправлению и наказанию в случае отклонения от известного и идеального состояния дел. Иначе говоря, первоначально под равновесием понималось некое естественное состояние человеческих обществ, правила функционирования которых были схожи с законами мира природы (т. е. с законами механики), так что попытки изменить их неизменно вызывали лишь неодобрение. Таким образом, применительно к экономической проблематике естественный порядок (равновесие) представлялся проблемой, имевшей долгосрочное измерение, так что научный интерес по необходимости концентрировался на долгосрочных характеристиках цен и производства, с особым упором на распределение дохода. Последствия этого мировоззрения мы, конечно же, пожинаем и сегодня. Так, например, и классическое, и неоклассическое определение конкуренции базируются на идее статического равновесия, т. е. точки пространства производственных возможностей, в которой показатель богатства достигает максимума. В соответствии с этой идеей фактически никто ни с кем не конкурирует, все заняты лишь выживанием, главная цель состоит в том, чтобы избежать убытков, а инновации представляют собой скорее плод инстинктивных действий, чем результат поиска и освоения новых возможностей получения прибыли[36]. Эта доктрина также отвергает представление о конкурирующих производителях, стремящихся удовлетворить чьи-то потребности (т. е. спрос покупателей). В действительности эта статичная концепция равновесия представляет собой тот самый принцип, который сегодня вдохновляет деятельность антимонопольных органов, выступающих в одно и то же время регуляторами, судами и исполнителями решений.
Итак, с конца XVII в. и до так называемой маржиналистской революции 1870-х гг. сущность и содержание экономической науки имели в высшей степени стандартизированный облик, так что экономисты представляли собой однородную массу: они имели одинаковую точку зрения на предмет своей науки. Конечной целью экономической теории было понимание правил и последствий взаимодействий, имеющих место между индивидами, а также научение тому, как получить общество, которое работает должным образом[37], а именно в котором обеспечивается стабильность местных сообществ, отличающихся и удерживаемых вместе «приятностью взаимной симпатии»[38], с одной стороны, и в котором обеспечены интересы, материальная выгода и власть политического органа (государя или государства) – с другой. Неудивительно, что в течение столетий в общественных науках равновесие было общепризнанной концепцией. В частности, экономическая наука лишь эпизодически проявляла случайный интерес к индивидуальному поведению и в еще меньшей степени – к личному потреблению. Центральное место – практически до самой середины XIX в. – на сцене науки занимало производство: «Политическая экономия… не занимается вопросами потребления богатства, не считая того, что потребление в ней признается неотделимым от производства или от распределения. Нам неизвестна какая-либо отдельная наука, предметом которой являются законы потребления богатства: возможно, эти законы являются лишь законами человеческого наслаждения. Политическая экономия никогда не рассматривает потребление само по себе, но всегда лишь с целью исследовать, каким образом разные виды потребления влияют на производство и распределение богатства»[39].
Разумеется, какие-то различия все же существовали, существовали даже разногласия. Например, Джеймс Стюарт и Адам Смит выдвинули теорию ценности (ошибочную), противостоящую теории ценности Фердинадо Галиани, Этьена де Кандильяка и Анн-Робера Тюрго. Воззрения Давида Юма на деньги отличались от концепции денег Ричарда Кантильона. Сторонники свободной торговли частенько оспаривали утверждения меркантилистов и предлагавшиеся ими эмпирические решения, варьировавшиеся от страны к стране. Адам Смит и Давид Рикардо считали, что экономический рост представляет собой ценность, тогда как другие экономисты, такие, например, как Джон Стюарт Милль, считали экономический рост неизбежным злом. Разные авторы также рисовали разные картины будущего. Жан-Антуан Кондорсе был довольно оптимистичен, Давид Рикардо предлагал более мрачную перспективу, тогда как Адам Смит и Томас Мальтус часто давали неоднозначные оценки будущего и порой противоречили сами себе[40].
Однако для наших целей более важно, что эти различия обычно сводились к разнице личных точек зрения, представляя собой не более чем разницу во мнениях, а не несовпадение научных результатов, выработанных разными школами мысли, и не радикально конфликтующие описания человеческой природы и общества[41]. Иначе говоря, общая цель экономико-теоретического исследования принималась, в сущности, как данная и эволюционировала постепенно, почти неосознанно, почти не встречая открытого несогласия.
Главной причиной, по которой доктринальные конфликты между экономистами-теоретиками отсутствовали, состояла, вероятно, в том, что в течение долгого времени экономическая наука практически не воспринималась как самостоятельная научная дисциплина, о чем мы говорили в предыдущем разделе. Конечно, во все века люди интересовались способами улучшения своего материального положения (или, скорее, способами выживания) посредством преобразования природных и трудовых ресурсов в товары и услуги, которые могли бы быть либо потреблены самими производителями, либо обменены на другие товары и услуги. Однако как раз перед наступлением века Просвещения экономика стала рассматриваться как феномен, порожденный спонтанной человеческой деятельностью и свободным взаимодействием, которые требовали (а) изучения и последующего одобрения «философов» (т. е. духовных авторитетов, вероятно, по соображениям сохранения добродетели души, искушаемой жадностью и роскошью); (б) институционального надзора, если не решительного вмешательства, со стороны государя или церковных иерархов; (в) реализации решений (т. е. принуждения к их выполнению), которые должны были быть приняты судами. Изучение способов, которыми сообщество может мирным путем увеличить свое богатство, вызывало сравнительно небольшой интерес то ли ввиду очевидных пределов этого роста, то ли ввиду отсутствия смысла исследовать величину общественного благосостояния, а не благосостояния тех, кто образует эту социальную общность. Конечно, экономический рост не был совсем оставлен вниманием, иногда он рассматривался как преходящее явление, а иногда как неизбежный продукт «прогресса промышленности», т. е. почти всегда как элемент, который следует принимать во внимание при управлении общественными организмами в их стремлении к намеченным целям[42].
2.4. Наследие классической школы: холизм, междисциплинарный характер, статика
Когда на свет появилась классическая школа (более или менее условно этот момент можно отнести ко времени опубликования «Богатства народов») и на протяжении ее славных дней, продлившихся почти до конца XIX в., наследие прошлого было отброшено или забыто. Преобладающими стали холизм, междисциплинарный характер и дедуктивный подход. Да, это были те самые свойства, которые оказались слабым местом классической школы, когда стало очевидным, что подход, остающийся в рамках классической экономической теории, не способен объяснить, что происходит в реальном мире.
2.4.1. Обольщение холизма
Типичное для мира классического либерализма холистическое мировоззрение берет начало в понимания того обстоятельства, что поскольку экономический контекст представляет собой результат деятельности индивида, то большинство взаимодействий являются результатом инстинктов, которые должны контролироваться и в ряде случаев подавляться ради поддержания добродетели (морали). Считалось, что инстинкты присущи любому человеческому существу, но вместе с тем никто не думал, что их нужно обуздывать неким единообразным образом, одинаковым для всех сообществ, или даже одинаково для всех членов одного и того же сообщества. Весьма спорным здесь, в отличие от Средневековья, является вопрос о том, были эти ожидания, характерные для правящего класса, так же распространены и среди населения. Однако в классическую эпоху, как и в Средние века, предполагалось, что каждый участник сообщества должен соглашаться с предустановленной ролью, являющейся следствием принадлежности к определенному классу по факту рождения, будь то работник, купец, землевладелец или капиталист. Таланты можно было использовать только в рамках заданного социального и культурного контекста, который также определял, до какой степени инстинкты, включая такие имеющие отношение к экономике, как предпринимательский инстинкт или стремление к повышению уровня жизни, подлежат наказанию, сдерживанию, руководству. Иными словами, поведенческие шаблоны устанавливались правилами игры, т. е. формальными и неформальными нормами, характерными для конкретного сообщества или его составляющей части («подсообщество»), такого как семья или гильдия, к которому принадлежал индивид. Со всей реальностью был осознан тот факт, что человек всегда стремится к улучшению материальных условий своей жизни, но, как указывал Адам Смит, желание улучшать свое положение по большей части относилось к личным амбициям человека, состоящим в продвижении вверх по социальной лестнице, с тем чтобы получить публичную оценку и подтверждение своего статуса в сообществе. Одним словом, все нематериальное в конечном счете сводилось к морально приемлемому желанию отличиться.
«В чем состоит зародыш страсти, общей всему человечеству и состоящей в вечном стремлении к улучшению положения, в котором находишься? А в том, чтобы отличиться, обратить на себя внимание, вызвать одобрение, похвалу, сочувствие или получить сопровождающие их выгоды. Главная цель наша состоит в тщеславии, а не в благосостоянии или удовольствии; в основе же тщеславия всегда лежит уверенность быть предметом общего внимания и общего одобрения» ([Smith 1982 [1759]: 50], [Смит, 1997, с. 69–70]).
Эта новая установка не осталась без последствий. В частности, тот факт, что причиной обмена была названа некая инстинктивная человеческая склонность к торговле, а не различия в личных предпочтениях, не позволил сформулировать тезис о взаимной выгоде, которую люди получают от торговли. Адам Смит и авторы классической традиции не сумели понять, что обмен выгоден не только потому, что он позволяет специализироваться, но и потому, что в ходе обмена блага переходят от тех, кто ценит их относительно низко, к тем, кто ставит их относительно высоко. Естественным образом одна ошибка может с легкостью породить другую. Так именно и произошло: не поняв, что обмен основывается на различиях в субъективной природе ценности[43], авторы классической школы не сумели осознать слабостей своей трудовой теории ценности, в конце концов, спутав цены и ценность[44].
Формулируя более общий вывод, можно сказать, что классическая школа, пытаясь сохранить холизм, соединила концепцию естественного закона с производством, что позволило ей успешно противостоять аргументации в пользу политического вмешательства в экономику. Как отмечал Эпплби, «когда Адам Смит положил в основание автоматических, самоподдерживающихся экономических законов некое базовое свойство человека, состоящее в любви к торговле на деньги и к бартеру, он проигнорировал такое основание экономической деятельности, как стремление человека к улучшению своего материального положения, встав в длинный ряд мыслителей, восходящий к самому началу XVII столетия» (см. [Appleby, (1978) 2004, p. 103]). Но эта путаница предопределила также и другую огромную теоретическую ошибку классической школы. Из-за нее вплоть до конца XIX в. многие авторы (примечательное исключение составляют экономисты так называемой старой исторической школы, лидером которой был Вильгельм Рошер) предпочитали рассматривать экономическую систему в статическом состоянии, в котором инновации и прогресс играли незначительную роль (см. [Ricossa, 1986, p. 77]), предпринимательство практически отсутствовало и даже рыночная система рассматривалась, скорее, как продукт просвещенного социального инженера, а не как спонтанные взаимодействия индивидов, что соответствовало традиции, которую популяризировал Адам Смит[45]. Можно лишь гадать, мог ли помочь делу более тщательный анализ фундаментальных свойств западной цивилизации[46]. Помимо всего прочего, как отмечается в [Bouckaert, 2007], когда появилась западная цивилизация (в эпоху Высокого Средневековья), общество вряд ли могло считаться статичным или спящим. Хотя средневековый уклад жизни был тогда практически повсеместным, в ряде регионов Европы сообщества стремились торговать, приобретали независимость, восставали против агрессии и эксплуатации. Богатство и доход на душу населения росли очень медленно, но не везде эти темпы были пренебрежимо малы. Почему авторы классической школы проигнорировали почти 800 лет усилий, которые предпринимались как на индивидуальном уровне, так и на уровне целых сообществ? Почему они ошиблись в трактовке такого явления, как субъективизм, и упустили из виду его решающий вклад в феномен предпринимательства и рыночных цен (спроса)? Удовлетворительный ответ на эти вопросы потребовал бы отдельной книги, целиком посвященной этой проблеме. Возможно, экономисты были введены в заблуждение скромными материальными результатами этих напряженных многовековых усилий, а именно пренебрежимо малым ростом уровня жизни. Возможно, они слепо следовали за средневековой трудовой теорией ценности, согласно которой цена справедлива, когда она вознаграждает усилия производителя. Это означало, что продавец либо должен получать плату, достаточную для выживания (если продавец является работником или крестьянином), либо его оплата должна быть достаточна для того, чтобы он имел возможность жить в соответствии со своим высоким положением (если он принадлежит к классу землевладельцев). Продавцы, принадлежащие к оставшимся социальным группам (торговая буржуазия), остаются при этом в чистилище серой зоны неопределенности[47]. Это также означает (и для наших целей это более важно), что понятие личных предпочтений не считалось имеющим отношения к экономико-теоретическому анализу.