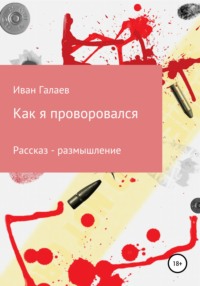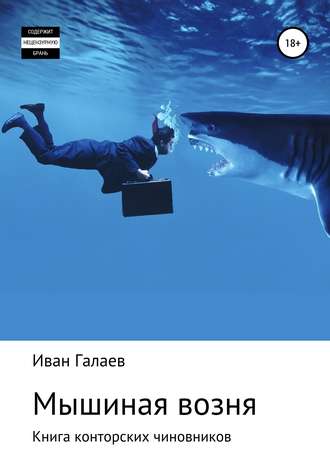 полная версия
полная версияМышиная возня. Книга конторских чиновников
– Не ёрничайте сейчас. Что Вы делаете по жалобе у себя? – спросила она с явным акцентом на «Вы».
– А, «мы»? Мы развешиваем жалобы на стенку, бьём в бубны и читаем молитвы. Иногда перечитываем строки из письма и пересказываем друг другу, вдруг наступит озарение.
– Я серьёзно!!!
– Уважаемая! Ваша напористость меня утомляет. Как Вы представляете себе работу органов власти? (короткая пауза. Наверное, представляет там). Я специалист, который запрашивает, анализирует и перерабатывает информацию. От того, что мне предоставят, будут зависеть дальнейшие действия. В случае положительного решения вопроса отчитаемся какие мы молодцы, если что-то совсем плохое безобразие, то будем поднимать панику и «лохматить бабушку».
Честнее в этом месте было пообещать, что мы сделаем всё возможное для людей, окажем свою поддержку, за исключением помощи, разумеется.
– Вы что-то сделали из перечисленного?
– Что-то сделал, но результат труда предоставить не могу.
– Почему?
– Потому что работа ещё идёт, на бумаге пусто. Ответ не готов. Мне Вам нечего доложить, даже по-дружески.
– Кто предоставляет Вам информацию? Почему он тянет?
– Какая разница, кто мне предоставляет информацию? Почему Я должен Вам выкладывать наше внутреннее убранство? И он вовсе не тянет! Это процедура со своими сроками и сложностями, которую ускорять Я не вижу оснований.
– Мне нужно знать исполнителей, чтобы получить от них информацию, раз уж Вы не хотите помогать.
– Вы хотите перехватить информацию по пути к нам? Это запчасти, которые должны прийти на пункт сборки, ко мне т.е.! Вы же не покупаете кефир у кладовщика между фурой и складом гипермаркета? – здесь также.
– Вы понимаете, что вопрос наш общий? Мы должны готовить ответ вместе.
– Нет, это не так. Жалоба одна, но включает в себя 2 разных вопроса и ответы будут на них разными – один наш, другой ваш. Мы самостоятельный субъект государства со своими правилами, полномочиями и делами. Не лезьте к нам!
– У меня поставлен срок, а без вашей информации мне не подписывают моё письмо. Руководство не согласовывает, понимаете?
– Так вот в чём загвоздка, чёрт возьми! Это ваша внутренняя проблема. Если Ваши начальники не хотят отвечать без нас, то причем здесь мы?
– Вы чиновник, Вы отвечаете от лица области; должна быть солидарность власти и ответственность, в конце-то концов!
– Вы б ещё любовь к отечеству припомнили.
– А почему бы и нет?
Понимаете ли (хотя, думаю, нет), если завтра наш губернатор из собственной прихоти потребует явиться ВАШЕМУ департаменту на службу с босыми ногами, то Я не стану звонить коллегам и требовать глупостей командным голосом, – это неправомерно, абсурдно и уж точно ни к чему хорошему не приведёт. А если мои боссы начнут выдвигать подобные требования? Если они откажутся подписывать без соседской письменной подстраховки, что мы будем делать? Вступим в клинч, будем ругаться до потери пульса, или жребий тянуть?
В этом месте Я разогнался и уже тараторил – не остановить. Едва хватало дыхания.
– Понятно, – говорит дама с досадой. – А если мы вам в департамент напишем запрос? Ответите?
– А если колесо запустить до Праги? Докатится?
– Что?
– Мы повторяемся… Не будем злоупотреблять служебным временем. Пишите что угодно и куда пожелает душа…
Да хранит вас Джа.
Может это был новичок? Или чей-то родственник? Вероятно, имеет статус неприкосновенности и рисуется перед коллегами своей прытью.
А может у них там ещё похлеще чем у нас?
Случай с коллегой из смежного ведомства
Чтобы научиться работать нужен год, а чтоб грамотно уходить от ответственности – три
/один наш специалист/
Очередной резкий звонок из Аппарата губернатора. Был прерван наш любимый диалог – про обрезную вагонку (я это страшно люблю). Звонит помощница одного из заместителей губернатора (их там много), которая как на везение не является моим прямым начальником. Тётя, привыкнув, что кругом одни подчиненные, без реверансов начинает с вопроса:
– Кто занимается очисткой дорог?
Быка за рога!
Я люблю такие начала. Ответ на него противоречивый. В дорожной сфере нашей области трудится как минимум 60 тыс. человек, если не считать государственных и муниципальных служащих, являющихся чем-то промежуточным. Если же верить тому, что говорит СМИ, то дорогами занимается вообще только один губернатор. Между тем, каждый житель чувствует себя прирождённым дорожником: любой из них даст ценный совет по укладке асфальта и сделает обоснованное замечание по уборке снега, только начни работать.
Однозначный ответ на вопрос «кто занимается дорогой» у меня не заготовлен. Как не странно, за долгие годы не выработал.
Она, наверное, думает, что Я сейчас радостно заинтересуюсь её проблемкой и всё порешаю за неё? Ладно, постараюсь быть вежливым. Главное не нагрузиться работой, которая пытается вылезти не бог весть откуда. Неучтёнку делаю только для своих и то по большой просьбе для поддержания партнерских отношений.
– Какие именно дороги Вас интересуют, и какого уровня требуются ответственные?
– Дело в том, что сейчас позвонил человек из одной деревни и говорит, что у них всю зиму не убирают снег.
– Ответить на такой вопрос нельзя сходу, нужно разбираться. Требуется выяснить название дороги, её принадлежность и пр. Тем более, как Я понимаю, Вас не устроит название ответственного органа? Вероятно, хочется решения проблемы, так?
– Да, конечно, Вы меня правильно поняли.
– Такие жалобы должны проходить через канцелярию, регистрироваться и рассматриваться в общем порядке по резолюции директора. Мы же с Вами знаем, как это делается.
– Да, знаем, поэтому и решаем оперативно. Люди выехать не могут, а мы тут будем бумажную волокиту разводить…
– Это наша святая обязанность «волокиту разводить», а точнее – соблюсти все формальности. Призываю к последовательности. Есть инструкция, есть порядок и их положено выполнять. Звонок доброго человека в приемную высокого руководителя не повод для отступления от общих правил.
Nb^ Подозреваю, что заявитель был скандально-настойчив и тётя из приёмной не смогла ему аргументированно отказать, поэтому взвалила работу на себя. Теперь она пытается перепоручить задачу мне.
Ну-ну. Хитрый Митрий, да и Ванька не дурак.
– Вам что трудно позвонить кому следует и заставить работать? – продолжает она.
– Конечно трудно: это целая процедура. И не факт, что вопрос относится к нашим полномочиям. Если это компетенция муниципальных властей, то они меня могут послать восвояси или рассказать историю не хуже Оливера Твиста. У нас на них не власть, а призрачное «ВЛИЯНИЕ».
Вероятно, сложно сказал – возникла пауза с сапом в трубке. Добавляю в качестве итога к сказанному что тот разговор, который происходит сейчас между нами, мне будет предстоять много раз. Прошу понять: «будет задача – будут действия».
– Проанализировать аргументы, исследовать тенденции, провести должные консультации, развести бюрократию… Как это всё нам знакомо, – вздыхает она. – Т.е. Вы отказываетесь работать без официально оформленного обращения? Помочь по-хорошему не хотите?
– Именно так. Я даже не имею на это права. У меня весь день строго расписан и «оказание помощи по-хорошему» там не предусмотрено. Человек, прыгающий с камня на камень не может думать о чём-то ещё21.
Отвечайте за свою галантность сами, – вертится на языке.
– Ну и мерзавец же ты! – грызёт совесть.
– Что?
– Да так, ничего. Работай дальше свою таблицу. Давай, давай.
Проходит 15 минут и раздаётся внутренний звонок из нашей добролицей приёмной. Трубку взял коллега, что сидел неподалёку. Теперь уже отвертеться сложнее, но всё же можно. Слушаю краем уха их разговор. Расспросы, переговоры на 20 минут – тема та же. Он по неопытности и душевной доброте не уворачивается, а в режиме онлайн выясняет, разъясняет всё, на что горазд. Парень благородно лезет из шкуры, чтобы подсобить псевдозаботливой девушке из приёмной (уже нашей, внутренней, приёмной). Классно девчонки сработали.
После переговоров он берётся за дело: звонит непосредственно заявителю, уточняет проблему, в ответ выслушивает истории о всех тяготах сельской жизни. Заметно, что на него там ещё и покрикивают. Оправдывается. Вздыхает, звонит кому только может, объясняет суть проблемы и уговаривает кого-то там поработать. Не всё гладко и просто идёт с этим вопросом.
Разрулил, распедалил, – молодец! Ты лучший, в общем.
Я ухожу домой, а коллега приступает к своей неотложной «расписанной официально» работе, от которой его оторвали больше часа назад. План девчачий удался.
На следующий день эта жалоба прилетела официально, как положено.
На раз-два, взяли! И ещё ра-а-аз – взяли!
Протокол
В тесный кабинет и мои роящиеся мысли ворвался один из экс-начальников. Товарища разжаловали в ходе последней оптимизации штатного расписания, – но это ладно. Теперь он как политработник: сам ни за что не отвечает, но наверх что-то докладывает и приносит иногда от руководства неотложные поручения. Он редко участвует в каких-то делах, ответственности не несёт и поэтому выглядит бодро, как «новый шиллинг». Коллеги называют его Раз-два за позитивное отношение к труду и лёгкость характера. Его жизнь кажется ему настолько естественной и нормальной как хлеб на столе или ветер на улице. С радостью он сообщил, что надо бы оторваться от текущих дел и экстренно написать лёгкое приглашение на совещание. Лёгкое…
Раз-два убежал пить кофий, радуясь солнышку и всем, кто встречался на пути.
Задача, которую он на меня запросто переложил, да и вообще вся ересь такого рода, не являются основной работой, а выступает дополнительной нагрузкой. Я спрогнозировал в голове весь алгоритм предстоящих событий, – и перспектива казалась мрачной.
Пригласительное письмо в несколько адресов на официальном бланке не такая уж и проблема, всё самое интересное там, дальше. По очевидному правилу, именно автор текста понесёт его на дальнейшее согласование всем цензорам, – и с этого начинается нелёгкий, полный неожиданностей, путь. Согласующие с умным видом зададут всякие вопросы, уточнят кое-что для себя. Некоторые, что повыше чином, поменяют время встречи и переставят слова местами. При написании приглашения придётся погружаться в суть дела.
Здесь, у нас, хоть и электронный документооборот, но бумагу всё равно должна ходить ногами исполнителя. Ходить, а если надо побыстрее, то и бегать! Надо посетить каждого из визирующих лиц и постоять как сосватанному. Часто приходится разъяснять некоторые тезисы. Но, это больше для важности. Собрав все сопутствующие подписи заношу в приемную, клею привычным жестом стикеры «срочно» и «вернуть исполнителю». Если документ самостоятельно не пронести по кабинетам, а пустить на самотёк то его ход займёт около 2х, дней. Иногда время на исполнение задачи – как и сейчас вот – отсчитывается в минутах, поэтому носим сами, кланяемся, объясняемся, исправляем и т.д.
Красная наклейка в этот раз сработала: шеф оказался на месте и не заставил себя долго ждать. Только он, будучи инициатором встречи еще раз от себя лично исправил время проведения мероприятия. Третий раз за полчаса! Секретарь самостоятельно внёс изменения в электронной версии, распечатал и позвонил мне: Неси, регистрируй и рассылай…
В канцелярии слово «срочно» не очень любят, но открыто не возмущаются. Они там ассоциируют оперативность с безалаберностью исполнителя, который дотянул. Иногда спрашивают, правда, запущена ли электронная версия. – Конечно, дорогуша, запущена. И подписана! – отвечаем уверенно с глазами навыпучку.
Открываем задачу, а там ожидаемое разочарование. Где-то подвисло наше «срочно».
Иди ищи электронную подпись, либо присядь на корточки, обожди. «Только не отвлекай болтовнёй», говорят.
Конечно, подождем, об чём реееечь!?
Обычно, при молчаливом ожидании, человек выдыхается стоять над душой за 3-5 минут.
– В общем, Я пошёл. У меня в запасе еще есть пару часов – позвони, как присвоишь номер, и Я прибегу, задрав штаны.
Дело продвинулось – документ на руках, со всеми атрибутами. Теперь рассылка! В смежные ведомства письмо доставит автоматика, а вот со всеми остальными надо отрабатывать по e-mail, в ручном режиме. Зная отношение органов власти и бюджетных учреждений к этому каналу связи, надо обязательно звонить им чуть-погодя и требовать входящий номер. Писать в диалоговом окне просьбу «уведомить о доставке» – не эффективно: не работает в 9 случаях из 10. Лучше начать прозвон спустя пару часов после отправки, тогда тебе по свежим следам не только номер скажут, но и доложат о решениях руководства. Но в таком манёвре есть некая опасность, основанная на разгильдяйстве: сообщение может быть проигнорировано, и тогда будет упущено драгоценное время.
Звоним-узнаем-фиксируем. Список участников известен – все идет по плану. Теперь надо не забыть сообщить всем местным начальникам, что главный шеф изменил время «заседания». Не сделаешь оповещение, и церемония может сорваться. У каждого начальника ещё масса своих совещаний, а может быть и выездов; у них там тоже полна коробочка. Может получиться, что на это время уже планируется чей-то визит или встреча какой-нибудь важной комиссии за дверями департамента. Все расписано по минутам. Кстати, именно из-за этих всяких «переговоров» с разъездами любой документ приобретает черепашью скорость, если его оставить как положено в лотке. На каждом этапе, его встречает суперзанятой исполнитель.
Как Я не сгущал краски и не накручивал себя, на сопротивление среды сей раз было минимальным. Каких-то пара часов, и список ожидаемых лиц на руках, все предупреждены и всё объято. Отлично. Теперь можно выпить чайку, собраться с мыслями, а потом уже взяться за основную свою работу. Лишь бы начальник ничего не передумал, чтоб не пришлось писать «отбой».
Чай в качестве мелкого поощрения – что может быть прекраснее для офисного человечка, воспринимающего день как череду незаметных никому побед, поражений и таймаутов. Как никто, Я понимаю, что задача не закончится приглашением: всех собрать – это совсем не финиш… Организовать встречу – не значит выполнить задачу. Да и вообще, есть ли у наших дел границы? Дальше привлекут к изнурительной подготовке повестки, информационных записок и ведению протокола. Барахтаться простоит долго. Лучше пока не думать об этом, хотя бы сейчас.
Сами переговоры в госорганах достойны отдельного исследования учёными.
Если записывать всё как говорилось на самом деле, в стиле стенограммы, то получится 30 листов дипломатической болтологии типа: «… Проанализировав доводы присутствующих и учтя тенденции роста, предлагается вернуться к всестороннему рассмотрению вопроса по выработке совместного решения…». Ни о чём!
Память человека – вещь ненадежная, а сущность его имеет свойство отказываться от своих слов. Чтобы хоть как-то фиксировать происходящее, все управленческие решения закрепляются в протоколе. При этом несмотря на всё стремление к чёткости, конкретика в документах остаётся понятием недостижимым. Информационные блоки виде: «цель встречи», «слушали», «решили» или «определили» имеются в обязательно порядке, но наполняются они такими эвфемизмами, скользкими фразами и приемами деловой этики, что понимать их можно по-разному.
Мне, как специалисту, и то понятны лишь некоторые тезисы да кивки на невербальном уровне. Надо уловить намеренья сторон, структурировать, и предельно тактично закрепить их на бумаге.
Возня происходит оттого, что в силу собственной «компетентности» никто не в состоянии сказать что-то однозначное. Политкорректность усложняет это обстоятельство ещё более. Присутствующие всячески пытаются отвести от своего ведомства опасность принятия решения. Они строят витиеватые словесные конструкции, создавая шум. Вокруг да около… только бы не принять этот груз ответственности на себя – основная мысль в чиновничьих головах. Каждый из участников защищен от неудобных ему фактов своей «справочкой», которую ему приготовили накануне подручные. Они там разложили по полочкам и заготовили различные увёртки, – совещания мандаринов – что-то с чем-то.
Целью встречи часто является необходимость сбора информации по каверзному вопросу для похода наверх и закрепление факта внимания к проблеме. В качестве промежуточного решения будет рекомендация о проработке какого-то направления действий, чтобы уработаться впустую. Чёткости здесь нет и не будет. Никогда!
Моей же головной болью является то, что вынужден структурировать очередную демагогию: содержательная беседа должна быть отражена в протоколе. При этом под сбитым текстом присутствующие, как всегда, подписываться не захотят, а начнут упражняться в редактировании. По ходу оформления будет 18 версий – минимум. Каждый из участников станет тянуть одеяло в свою сторону и утверждать, что он имел в виду чуть-чуть другое, а вот здесь… вообще так писать нельзя т.к. формулировки с таким содержанием обременительны и некорректны. Правим, правим, правим. Итоговая версия будет ещё бессодержательней чем само совещание, и ни к чему не обязывающей. Административные решения робки, как юные девушки. Под моим авторством не один протокол утонул в болоте любезностей с осторожностями, – этот не исключение.
– «… учитывая и невзирая, но имея в виду, отдавая должное…», – самому тошно.
Положительный эффект можно углядеть только в том, что все начитались информации и может быть хоть что-то для себя уяснили. Возможно даже правильно применят свои знания где-нибудь, а не нагородят огород. Хоть какая-то от этого польза, – гипотетическая.
Роль адъютанта-стенографиста в госучреждениях хоть и не пыльная, но скверная. Отобразить то, чего недопонимаешь всегда сложно, а сделать это ещё с учётом чужих противоречивых мнений – вообще ад адский. Здесь как бы сказать не велят и утаить не дадут. Дилемма даже в мелочах. Тёмные пятна и паузы, допущенные в тексте по умыслу, вызывают много вопросов у наших любимых боссов: они всегда хотят сначала в развёрнутом виде. Золотое правило – протокол растёт до гигантских размеров, обрастая всеми деталями и уточнениями, а потом болезненно сужается до сухаря. Кстати, всю историю вносимых поправок исполнителю нужно помнить и рассказать по первому же требованию, – это тоже правило.
Ну вот, текст отработан, регалии расставлены: «Начальник управления» – с большой буквы, «главный специалист» – с маленькой. Все вроде согласны и после многочисленных штурмов кабинетов – подписано. Ура!
Теперь регистрируем злосчастный документ, возвращаемся из канцелярии, делаем к нему сопроводительное письмо и запускаем связку по установленному маршруту в электронной версии. Бежим по ранее описанному кругу, собираем подписи и всё! Докучный фазис завершён.
Осталось повторить операцию с рассылкой и обзвоном всех адресатов, – но это ладно.
Между тем, сама задача не выполнена до конца, – радоваться можно только преодолению одного из этапов. Каждый такой протокол – проблема, поставленная на паузу. Он остаётся на персональном контроле у исполнителя, – таковы уж правила. Периодически будут тревожные звонки из разряда: «Как там дела?». В дальнейшем потребуется ряд повторных совещаний и сопутствующих им хлопот. Взял – неси до конца.
Иногда мне кажется, что всё это галлюциногенный сон от сильной дозы, и где-то вот сейчас отпустит.
Нет. Не отпускает.
Объём счастья всё копится и копится… Цикличные задачи набираются изо дня в день от месяца к месяцу как ракушки на днище корабля. Сопротивление растёт.
Постепенная перегрузка – одна из прелестей долгого пребывания на одном месте работы. Особенно она неотвратима для тех, кто заведомо стремился к высотам и всеми силами показывал свою прыть, но по каким-либо причинам застоялся на месте. Очень часто от готовности хорошо трудиться расширяется только круг обязанностей, – и это не только на госслужбе. Проявленные на ранних этапах пыл и рвение играют впоследствии злую шутку. Работать придётся как и ранее, с полной выкладкой, но только уже не для перспективы, а чтобы остаться на плаву.
Руководство знает планку специалиста, и будет эгоистично требовать полной отдачи «делу». Каждый из случаев уклона, или послабления со стороны подчиненного расценивается умышленной ленью, и незамедлительно караться.
На какой-то стадии работник начинает понимать, что рутинных дел на нём завязано уже больше, чем он может решить их в рамках рабочего времени. Кто-то смело увольняется, а кто-то делает последнюю, якобы спасительную, попытку «справиться», в которой заложен самообман. Бедняга начинает «вечеровать» и оптимизировать свою работу в ущерб качеству. Он ведёт одновременно 5-6 параллельных дел, порой забывая в каком из документов находится. Спешка и разброс внимания провоцируют его на мелкие ошибки по невнимательности, за которые чаще всего и следует наказание от надзорных органов по всей жестокости. Мелочи и формальности на госслужбе – главное.
Когда служащий является человеком ответственным (а такое иногда случается), его обязательно будет раздражать несправедливость и ощущение собственной несостоятельности. Он не сможет выкладываться по полной, и быть при этом виноватым, да ещё и наказанным. Начинается трансформация психики – процесс адаптации.
Помню, когда Я был совсем юным пацаном, мой отчим говорил про обитателей местной администрации, что они там «ничего не делают, а только для видимости переносят документы из одного кабинета в другой, меняя цвета закладок».
– Цок-цок-цок каблучками, нафуфыренные…
Дааа, папа, сейчас многие считают также. Детям своим про социальную защищённость рассказывают и ориентиры задают.
Прокуратура. Явиться ко двору
Прокуратура написала в наш департамент запрос: явиться к ним, предоставить материалы по своей ведомственной надзорной деятельности и дать разъяснения.
Лаконично, строго и даже сурово. Они любят в приказном тоне.
Как это водится у нас, документ автоматически был отписан на исполнение многим работникам из разных управлений и отделов – среднее руководств резко ни при чём. Получилось, что каждый исполнитель (являющийся проверяющим по своей части) должен подготовить свой материал по проведенным им проверкам и отчитаться в Прокуратуру самостоятельно. По примитивной логике резолюции, мы идём к Дворнику22 всей ордой.
Дальше началась беготня, напоминающая кино про дураков. Все специалисты суетятся, хлопочут и пытаются друг у друга выведать хоть что-то. Организация труда ни к чёрту. Это походит на ситуацию, когда князь-полководец говорит своему войску: «Завтра пойдём на войну», и не даёт разъяснений что да как. Стратегия с тактикой ложатся на каждого из бойцов. Одному богу известно, что из того получится и в каком направлении побежит войско без слаженности. Скорее всего оно станет толпой обезумевших.
Там, где всем поручено заниматься всем, там никто ничем не занимается, кроме препирательства. Работник не хочет взваливать дополнительную нагрузку ответственности на себя. Он понимает, что стоит только начать быть главным, и придётся расхлёбывать кашу до самого дна котелка. Идти к руководителю и уточнять: «кто из нас старший?» – имеет предсказуемый исход. Флагманом назначат того, кто спросил, и отвечать за всё будет тоже он. Сделают главным и наденут крутую капитанскую шляпу.
Как следует предполагать, никто из «наших» не хочет звонить за уточнениями и тем самым поднимать знамя своими руками. За лидерство не доплачивают, а риск остаться крайним – велик.
Кроме того, чтобы общаться с погонниками, надо быть широко «в теме». Это не консультационное бюро, где говорят: «Спасибо за звонок, он очень важен для нас…» Там не станут привечать из вежливости ибо нечего с нами водить хороводы, и вообще все достали. Им нужен один разумный «молодец». Если в ходе переговоров вопрос задать не корректно, есть высокая вероятность услышать поучительную лекцию о собственной некомпетентности, про которую он и так знает.
Даже если диалог состоится «ласковым», полученные разъяснения надо ещё правильно понять. Не каждый из нас способен постичь и систематизировать в своей голове то, что услышал, тем более, когда разговор идёт на казённом языке. В общем, вести переговоры надо кому-то из толковых ребят, и не боящихся при этом перетрудиться.
Исполнители, как, впрочем, и Я, собрались в кабинете и начали юлить да перепираться как дети. Начальники-полководцы же дистанцировались от нашей задачи, что здесь так часто бывает. Называется «разберитесь сами» (завтра идём на войну).
Наблюдая за разговором Я понял: ни один из присутствующих не видит целостной картины и даже не пытается её понять. Каждый держит в голове только свой фрагмент «дела» и на общий исход ему плевать. Главное вовремя услышать всплывающие детали задачи и не отходя от кассы отбрехаться. Здесь все хитрецы с огромным стажем в подобных увёртках. Очевидно, нужна ясность. Только полная раскладка, со всеми нюансами способна закончить это безумие.