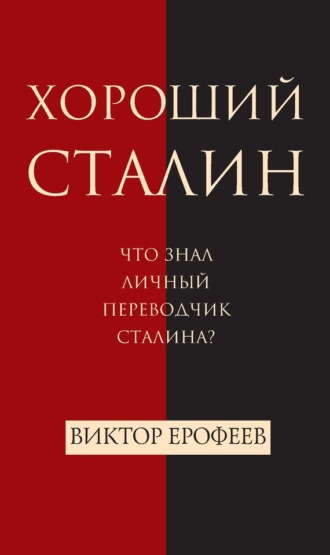
Полная версия
Хороший Сталин
СТАЛИН. Я желаю вывести морозоустойчивые лимоны.
Метафизический вызов, достойный бывшего семинариста. Успех мероприятия зависел как от русской податливости, так и от постоянного обновления, очищения от тех, кто держал в уме эту разницу. Будущее было как радостный вздох от снятия антиномии.
Я сначала удивился – и понял: зря, когда отец сказал, что он не волновался в присутствии Сталина. В отличие от волновавшейся при виде вождя интеллигенции, у которой рождались от волнения анекдоты о Сталине, отец существовал одним из его продолжений, добавочной квантой света. Из этого положения трудно вернуться домой.
Переводческие курсы при ЦК ВКП(б) на Миусской площади – Царскосельский лицей образца 1939 года. На сто человек курсантов – сто человек преподавателей и администраторов. Курсантов учат языкам иностранцы, а в свободное от учебы время их хорошо кормят и даже убирают за них в комнатах. Здесь учится на английском отделении моя глубоко задетая мама-новгородка: папа начал было за ней ухаживать, даже раз поцеловал на свидании, были и письма, гордо подписанные Владимир, маму особенно волновала эта подпись, но она так и не дождалась следующей встречи, сидя в новой оранжевой кофточке: он переметнулся к ее соседке-подруге-красавице по узкой комнате, Любе, и та, рыжая, стала гордо входить, покачивая боками, после встреч с отцом в общежитие. Отвергнутый Любой поэт Борис Смоленский, посвятивший ей немало стихов, мучился не меньше мамы, но на почве общей отверженности у них не случился роман. Мама ушла с головой в язык и стала интеллигентной девушкой, полюбившей искусство. Отец играет в студенческом театре. В матросской тельняшке он выскакивает на сцену, палубу корабля, с выпученными глазами кричит: «Полундра!» – и прячется за кулисами. Театр предсказывает его скорое будущее.
Мне ли осуждать приметы ХХ века? Случись на один выстрел, на одну освенцимскую печь меньше, глядишь, меня бы и не было. Хлопоты по самопожертвованию задним числом не принимаются.
В начале войны отец, в то время уже выпускник, экстерном сдавший экзамены переводческих курсов, готовился в спецотряде к диверсионным актам в тылу врага. В последний раз перед отправкой за линию фронта он неудачно спрыгнул с парашютом, сломал ногу, сев на высокую ель, и попал в госпиталь. Хирурги решили ампутировать ему ногу по колено, пугая гангреной. Он отказался от ампутации. Пиши отказ. Отец написал. Он лежал в коридоре, прислушиваясь к горящей ноге. Температура была высокой – он бредил. Шансов – практически никаких. Какой-то молодой врач случайно спас его, решив опробовать на его ноге препарат – мазь Вишневского. Два раза в день врач терпеливо втирал мазь в отцовскую ногу. Вишневский материализовался из этой мази через много лет уже в нашем доме: шумный, большой, генеральский – он пьет французский коньяк. Родители по сравнению с ним маленькие люди из русской литературы. На столе много хлебных крошек, оставшихся после ужина. Он провел пальцем по моему позвоночнику – остался недовольным. По знакомству вырезал маме аппендицит и сделал на глазах студентов, по ее словам, виртуозный шов. Вся группа, улетевшая без отца взрывать мосты на Смоленщине, была уничтожена.
– Ну, тебе, парень, считай, повезло, – перетасовал карты хирург, предлагавший отрезать папину ногу.
После госпиталя отца, случайно его отыскав, пригласили работать в Народный комиссариат иностранных дел, как тогда назывался МИД, поскольку большинство его сотрудников, брошенных в народное ополчение оборонять Москву в октябре 1941-го, погибли в окружении.
– Будешь теперь ходить по красным коврам и нас забудешь, – сказал ему командир на прощание.
Хорошо сражались немцы на море! Взять хотя бы подвиг, узнав о котором замер мир: подводная лодка У–47 прорвалась на британскую базу Скапа-Флоу (капитан-лейтенант Прин; 14 октября 1939 года) и затопила линкор «Ройал Ок». Гитлер стал грозой океанов. Его борьба против судоходства в Арктике во время блиц-похода на Россию велась под руководством гросс-адмирала Редера, человека набожного, не допускавшего грязи на флоте и в методах морской войны. Как-никак Военно-морской флот Германии обязан Редеру уникальной формулой: «Война без ненависти». Противником моего рождения, наряду с Редером и контр-адмиралом Деницем, немецкими подводными лодками и заполярной авиацией, стал линкор «Тирпиц».
– Мы решили отправить вас за рубеж, в Швецию, – объявил отцу заместитель министра по кадрам Деканозов. – Дипломатии вас обучат на месте. Коллонтай – посол опытный. Вопросы есть?
Ставленника Берии, Деканозова, расстреляют в 1953 году, он об этом еще не знает. Работа в нейтральной Швеции будет, конечно, счастьем. Найдется даже немного личного времени, чтобы увлечься дочкой антифашиствующего физика Нильса Бора, но по закону волшебной сказки, чтобы добраться до счастья, герою нужно подвергнуться смертельным испытаниям.
– А в чем мне ехать? – осмелился отец, стоя перед Деканозовым в военной гимнастерке.
– Поедете за границу, там и переоденетесь.
Так отец стал Одиссеем. Швеция отрезана от союзников. Норвегия и Дания под оккупацией. Финляндия воюет на стороне немцев. Отцу предписали ехать в Куйбышев, оттуда – в Архангельск, далее с морским караваном до Англии и бог весть как до Стокгольма.
Если писать голливудский сценарий, я бы начал с бомбежки. Заявка: это фильм о мужестве американских и английских моряков – «Титаник» отдыхает. Немцы бомбят деревянный Архангельск. Архангельск в огне. Вокруг редкого для города кирпичного здания гостиницы «Интурист», где живет отец, бушует пламя. Союзники не решаются выпускать свой флот в обратное плавание. В Архангельске отец задерживается надолго.
– Товарищ, ты тоже в Швецию? Попутчик? Как зовут? Владимир, пошли есть тушенку!
В холле гостиницы, по щиколотку в золе, два молодых дипкурьера в черных шляпах перебрасываются банкой тушенки, как будто играют в регби.
– Владимир, это и есть ленд-лиз! – Дипкурьеры продолжают кидаться банкой. – Караваны транспортных судов под конвоем военных кораблей доставляют к нам из Англии и США стратегические грузы, оборудование и – опля! лови! – тушенку! Назад плывет наше сырье. Пойдем выпьем! Водка – лучшее лекарство против гари.
– Мы уже третий раз плывем в Швецию. – Первый дипкурьер бросает шляпу на кровать в номере на двоих.
– Ну и как? – спрашивает отец.
– Смерти нет! Война, как и человеческая жизнь, состоит в основном из перечислений.
– Молчи, безымянный! – Второй дипкурьер разливает водку по граненым стаканам. – Чем больше я боюсь смерти, тем дальше она от меня отступает.
– Володя, не слушай его! Немцы сосредоточили на Севере самую крупную группировку военно-морского флота во главе с линкором «Тирпиц».
– Водоизмещение в 52 600 тонн и команда в 2608 человек, – подхватывает второй дипкурьер. – Это – город! Такого корабля ни у кого больше нет!
Отец делает понимающее лицо.
– У нас тут горничная, Володя, – раскатывает нижнюю губу первый, – вылитая Любовь Орлова. Опытный кадр. Ну, почему все актрисы спят с режиссерами?
– Вместе с линкором, – продолжает второй, – в Заполярье находятся крейсеры, – загибает пальцы, – «Шарнхорст» (по-моему, его там не было, я проверил по справочнику. – В. Е.), «Адмирал Шеер», «Лютцов», «Кёльн» и «Нюрнберг». Пять!
– После войны «Нюрнберг» будет плавать под нашим флагом. Его переименуют в «Адмирал Макаров»! – хохочет первый.
– Постой! Их сопровождают больше двадцати самых современных эскадренных миноносцев. Задействованы 520 немецких самолетов и значительные силы подводного флота под командованием…
– Контр-адмирала Деница, – вставляет отец. – Чего вы радуетесь?
– Молоток! Гитлер поставил Деницу задачу полностью перекрыть проход к нашим северным портам.
СТАЛИН. Сосо с Истоминой в постели в стыдливой наготе лежал…
Дипкурьеры оглядываются по сторонам.
– Володя, ты что-нибудь слышал?
– Нет.
– И мы тоже ничего не слышали.
– Не взорвемся – так прорвемся! – говорит первый дипкурьер, весело оглядывая опечатанные мешки с диппочтой. – Володя, пьем!
В июле 1942 года советский подводник Лунин успешно атакует «Тирпиц». Линкор уходит на ремонт во фьорды Норвегии, хотя в западной исторической науке считается, что Лунин со своей подлодкой К–21 – рекламный трюк. Во всяком случае, путь для союзных кораблей открыт. К началу сентября сформирован конвой QP–14: несколько советских и английских сухогрузов, танкеров, как малые дети, окружены вниманием военных судов Англии и США. Советских боевых нянек в эскорте нет. Посмотришь на караван – да он непобедим: группа крейсеров, двадцать эсминцев, корабли ПВО, одиннадцать корветов, траулеры, подводные лодки, минные тральщики!
– Володя, ты куда? Иди к нам на сухогруз! – Дипкурьеры машут отцу банками тушенки с борта советского судна.
– Меня послали к англичанам на минный тральщик.
– Тебя послали слишком далеко! Плыви с нами!
– У меня предписание.
– Сейчас уладим. Наш капитан – парень что надо!
Владимир поднимается на борт тральщика «Лорд Мидлтон» без всякого удовольствия. Английского языка он почти не знает. С кем общаться? Хорошо дипкурьерам – тех посадили к «нашим», а Катю Варенникову, совсем юную беременную женщину, которая плывет к мужу, работающему в Лондоне, на английский сухогруз. Как всегда, русские любят меняться местами, пересаживаться. Перед отплытием будущая мамаша в слезах просит отца взять ее с собой:
– Володя, мне страшно среди чужих.
Никто не заметил, что они успели близко познакомиться, живя в гостинице.
– Хорошо, что Бога нет, – продолжает Катя. – Если придется умереть, не надо будет гореть в аду.
– Почему же в аду?
Катя пожимает плечами. Отец хлопочет за нее, бегает, но безуспешно.
– Мои британцы скисли, – говорит он в порту беременной красавице. – Отплытие каравана назначено на тринадцатое число. Кроме того, присутствие женщины на военном корабле, сама знаешь, плохое предзнаменование.
Шотландцы, основной экипаж тральщика, отвергнув женщину, отца встречают дружелюбно. Капитан с коричневыми от курева зубами распоряжается.
КАПИТАН. Выдать ему морскую желтую робу с капюшоном, теплое белье, сапоги и личное оружие – маузер!
Что значит правильная одежда! Впервые в жизни отец выглядит как настоящий мужчина – в желтой робе с маузером ему не страшно.
Не успел конвой QP-14 выйти в Белое море, как его засекает германский воздушный разведчик. И – началось! Конвой выставляет против немцев плотный заградительный огонь. Но немец – опытная сволочь! Курс – Шпицберген. Небо кишит самолетами. Война перемещается вовнутрь головы Владимира, которая подвергается непрерывным атакам крупных отрядов самолетов-торпедоносцев «Хе-177» и пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-88».
За кормой тральщика отец видит вереницу горящих в море костров.
БОГ. Война, как всякая творческая игра, наглядное доказательство моего существования.
В ледяной воде и озерах мазута тонут кричащие дикими голосами люди. Им никто не поможет: каравану дан приказ идти полным ходом вперед на отрыв от противника, не задерживаясь для спасения гибнущих. Немецкая авиация загоняет караван к кромке пакового льда у Новой Земли, но и там достает, хотя, по-хозяйски экономя горючее, не может долго висеть над противником.
Владимир постепенно осваивается жить под бомбами. Его природная любознательность не дремлет. Скажите, капитан!
– До войны «Лорд Мидлтон» был китобойным судном. Киты, по сути, те же немцы, одно слово: млекопитающие. Моя команда – 52 человека. Смотри, что мы имеем: два орудия – на носу и на корме, два крупнокалиберных пулемета на капитанском мостике, ну еще аппарат для сбрасывания глубинных бомб. Хорошая новость: Катя родила.
– Да ну?
– Сегодня утром. В Исландии выпьем шампанского. Немецкие самолеты специально не охотятся за нами, хотя приходится без конца маневрировать. Поверь, как пройдем за Шпицберген в Антлантику, будет полегче.
Владимир вынужден признать, что поговорка «как в воду глядел» в этом случае не подходит. Проход между Шпицбергеном и Норвегией оказался самым опасным. Авиация не унималась. Она бы наверняка уничтожила весь караван, но начались арктические туманы. Караван накрылся саваном. Немецкие самолеты еще не имели радаров. Основные немецкие корабли не вышли в море. Гитлер решил не подвергать свой флот риску.
Однако в районе острова Медвежий немецкой авиации удается потопить сразу несколько судов. Сгорели живьем оба веселых картежника-дипкурьера. Они не захотели оставить на горящем сухогрузе мешки с давно просроченной почтой. В тот же день утонула Катя Варенникова вместе с дочерью, которую английские моряки по случаю рождения на море нарекли Мариной.
В Атлантике караван встречают субмарины со свастикой. Они нагло подходят к каравану в надводном состоянии, затем погружаются и начинают его прошивать торпедами с разных сторон. Сильной взрывной волной отца, стоящего, как всегда, на капитанском мостике, отбрасывает на перила. Папа, не утони! В непосредственной близости от тральщика поражен новенький, только что спущенный на воду красавец – английский эсминец «Сомали». Торпеда попала в машинное отделение.
Эсминец накренился, но не затонул. Двум другим эсминцам и отцовскому тральщику как вспомогательному судну дан приказ обеспечить транспортировку поврежденного корабля до Исландии. На борт «Сомали» возвращается со спасательных шлюпок команда. Остальной караван продолжает свой путь. Через несколько суток, ночью во время шторма, «Сомали» разламывается пополам. Он стремительно идет ко дну со всей командой. Моряки закидывают в океан огромные сети. Улов: пятнадцать почерневших от холода людей (из шестисот) и много рыбы. Ром – в глотки, растирание спиртом, грелки с кипятком. Двое выжили. Освободившись от задания, эсминцы рванули вперед догонять караван. Тральщик остается один в океане.
Тишина. Солнце. Плакучие полярные ночи (уже не их сезон, но оставим для красоты). Погода благоприятствует плаванию. Порой отцу кажется, что он, взрослый молодой человек, на морской прогулке во время отпуска. В голубых далях рождаются привидения любви. Свадебные перины облаков. Жаль только, что рядом нет, кого хочет обнять мой отец. Наутро он видит странные дымы, появившиеся у горизонта за кормой. Сигнал боевой тревоги: надводные корабли противника.
– Полный вперед! – кричит в рупор морской волк.
Однако соревноваться в скорости с тремя неизвестными эсминцами ему не под силу. Идущий впереди дает в воздух залп из бортовых орудий, требуя остановки тральщика.
– Fuck you!! – хрипит капитан, подмигивая отцу. – Развернуться, приготовиться к бою! – орет он в рупор.
Тральщик ощетинивается всем своим хилым вооружением. Отец сжимает в кармане рукоятку маузера. Но он забыл, куда дел патроны. Бежит в каюту, находит их под подушкой, пулей назад, на капитанский мостик. (У меня наследственное неумение обращаться с техникой, хотя я в детстве поражал всех меткой стрельбой в тире.) Наступает томительная пауза. Отец знает, что немцам живым он не дастся. Эсминцы, с шумом разрезая воду, приближаются, вырастая до неба над тральщиком. Отец запрокидывает голову. И вдруг крики:
– Янки! Янки!
Эсминцы подходят вплотную. Сгрудившиеся на борту матросы из Оклахомы, Миннесоты, Миссисипи и Алабамы, белые и черные, свои, до слез родные янки, сбрасывают на палубу тральщика мешки с гербовыми орлами. Консервы, банки с пивом – все то, чего отец с шотландцами лишены так давно. На тральщике пир горой. Все чувствуют себя героями, ходят пьяными, кричат отцу:
– Сталинград! Сталинград!
СТАЛИН. Не рановато ли?
Вечером отец, страшно смущаясь, учит команду другим, не менее крепким словам русского языка.
Советский Одиссей вступает на берег своей первой заграницы. Ногами он крутит глобус. Приятно почувствовать твердую почву, спокойно пройтись по улицам Рейкьявика. В Исландии нет затемнения: ярко окрашенные дома освещены по вечерам электрическим светом. Владимир любуется девушками, которые слывут самыми красивыми в Северной Европе.
Исландия всегда привлекала русских своей запредельностью. В ней не случайно побывал самый демонический герой Достоевского, красавец Ставрогин, который, впрочем, ничего не рассказал о ней, поскольку воображаемая страна не нуждается в туристических впечатлениях.
Странным совпадением, если не сказать провокаторской иронией судьбы, стало то, что я побывал в Исландии в том же самом возрасте, что и мой отец, в двадцать два года, хотя, в отличие от него, я никогда не доехал до нее. Моя Исландия жила на шестом этаже. На проспекте Мира, возле Рижского вокзала, в дипломатическом доме, двор которого охранял советский милиционер. Мне приходилось собрать всю свою несоветскость и нерусскость, чтобы независимо войти во двор в расстегнутой рыжей дубленке с девственно-белым мехом подкладки, не вызывая подозрения. Это была проверка не только на мою заграничность, но и на мою дерзость, за которую я мог серьезно поплатиться по тем временам. Более того, это был мой первый диссидентский прорыв за орбиту советского мира, переживание столь сильное и бесконечное, что оно меня окончательно выбило из русской литературной колеи. Еще лишь собираясь писать, бесконечно сомневаясь в себе, в себя не веря, а только что-то упрямо предчувствуя, я пережил свою Исландию как вход в роман, как превращение моей жизни в божественный текст.
Когда впоследствии я не раз портил этот текст, я возвращался мыслью к Исландии как к его истоку, замыслу, недостижимому образцу. Исландия стала страной моего грехопадения, моей совершенно незаконной, запретной любви. Моя Исландия была на пару лет старше меня, работала дипломатом в самом крохотном посольстве натовских стран, в тишайшем переулке возле улицы Воровского, а я был еще пятикурсником, только что счастливо женившимся, молодоженом в ожидании юной супруги, застрявшей в своей восточноевропейской стране по причинам визовой проволочки. И тут 7 ноября компания подвыпивших друзей, вращавшихся возле кино, приводит Исландию в квартиру моих отсутствующих родителей, и мы стоим с Исландией на зыбком балкончике родительской спальни, выходящей во двор, и смотрим советский салют, и она смотрит его с такой радостью, с таким неподдельным счастьем, что я понимаю: это салют счастья в нашу честь. И, как это бывает только в молодые годы, все постепенно куда-то ритмично проваливаются, расходятся, растворяются в воздухе, как будто было заранее предопределено, что не будет никаких задержек и проволочек, и мы остаемся вдвоем, влюбленные по уши, связанные всем и навсегда, почти немые из-за недостатка английских слов. Если есть матрица земной любви, если есть матрица земного блаженства, то в тот праздник революции она материализовалась на ковре родительской гостиной. Мы потеряли голову. Любовь требует простых китчевых слов, не нуждается в замятинском орнаментализме, склоняясь к мещанскому романсу. Ее описание – пародия на литературу, если она действительно любовь. Мы так и стали жить немыми, не доверяясь английским словам, в ее квартире на проспекте Мира, в полной незаконности нашей любви, в немой сказке, на периферии которой гудели враждебные силы. Ее замедленные движения, когда она наливает чай, ее неземной поворот головы, когда она оглядывается на меня на бульваре, автобиографический роман Горького на исландском языке в ее тонких аристократических руках, ее синий диван, на котором я ставил нечеловеческие рекорды страсти, чтобы никогда их больше не повторить и чтобы, что, может быть, самое важное, больше никому никогда не завидовать. И эти слова «эльска мин», которые остались во мне навсегда, и эти ее открытые белые ноги – какой там к черту Ставрогин, какие там к черту военные страсти отца!
Я спускаюсь в метро на станции «Рижская», мне двадцать два года, уже поздно, мне надо домой, я смотрю на призраки поздних пассажиров на эскалаторе – я знаю, что никто никогда не будет так счастлив, как я. Она рассказывает мне, что в Исландии есть народные песни, но нет народных танцев. Везде есть, а в Исландии нет, точно так же, как нет фамилий. Одни только отчества, отлившиеся в жизнь. Нам не надо было утверждаться в горячих гейзерах – хватало спермы. У нее шрам на пальце, и у меня – на левом указательном. Это когда я редиску чистил в седьмом классе длинным ножом с деревянной ручкой. На кухне. Кровь. Шрамы на пальцах. Мы – меченые. Но у нее, она говорит, эта фаланга пальца вообще была отрезана – напрочь, а потом она быстро приставила – и срослось. Как срослось? Такого не может быть. Не может быть ни твоего пальца, ни тебя самой, этого не бывает.
Я смотрю на ее неземной поворот головы, ее черной красивой головки, на ее чуть влажные от волнения глаза – это московский зимний бульвар, – нам надо принимать решение – она беременна от меня, – я просто не верю своему счастью.
– Ауста! – думаю я… – Капитанская дочь! Как ты прожила жизнь? Где ты? С кем ты? Сколько у тебя детей? Наверное, уже пошли внуки. Как твои две сестры? С ними что? И что стало с нами?
В Исландии, приведя себя в порядок, «Лорд Мидлтон» берет курс на Британские острова. И снова над отцом нависла – ну сколько можно! – смертельная опасность. Поздним вечером, когда команда уже готовится ко сну, сигнал тревоги:
– Подводная лодка противника!
Отец вскакивает с койки, быстро лезет по металлической лестнице на палубу. Как опытный моряк, он прислушивается к ритму волн, перекатывающихся через нее. Уловив момент, он толкает тяжелую дверь. До трапа на капитанский мостик – метров шесть. Он уже пробежал большую часть пути, когда слышит окрик капитана. Тот в рупор материт отца: Владимир не захлопнул дверь трюма. Оттуда ярким прожектором бьет свет на всю округу – отличная мишень для немцев!
Отец разворачивается на бегу. Тяжелая волна обрушивается на него, сбивает с ног, но ему удается уцепиться за рукоятку двери, он висит – болтается, как паяц, – очередная волна пинком посылает его вовнутрь. Мокрый до последней нитки, стуча зубами от холода и нервного шока, он все же повторяет свою попытку. На этот раз удается добежать до лестницы на капитанский мостик. На кривой поверхности океана он видит мерцающий зеленоватый свет. Тральщик осторожно приближается к нему. Шотландцы держат неопознанный предмет под прицелом своего оружия. Сейчас начнется морская дуэль. Отец стиснул зубы. Он не умеет молиться.
Каково же его удивление, когда, приблизившись к загадке огня, матросы обнаруживают дрейфующее бревно, которое фосфоресцирует малахитовым светом! Бревно разлетелось в щепки, когда по нему ударил пулемет. Долго смеялась команда над вахтенным, который поднял тревогу из-за бревна, блуждающего в ночи по океану.
Драили палубу, до блеска терли металлические поручни. И вот приплыли. Власти Эдинбурга, считавшие «Лорда Мидлтона» погибшим, устроили команде парадный прием. Военный оркестр, раздувая мехи волынок, исполнял на ветру бравурные марши. Почетный караул из рослых шотландцев в клетчатых юбках и цветастых гольфах выстроился перед ратушей. В ее здании моряков ждал званый обед: ели потроха по-шотландски. Это что-то такое серо-коричневое. «Похоже на дерьмо», – смекнул отец, накладывая «хаггис» со своей первой дипломатической улыбкой на тарелку. А когда попробовал, сказал себе без всякой дипломатии: «Лучше бы это было дерьмо!» У Владимира разболелся живот. Впервые отец предстал перед многочисленной иностранной аудиторией. В потертой гимнастерке он выглядел странно. Никто не придал этому никакого значения. Весь Эдинбург глазел на живого советского человека, прибывшего из воюющей России.
– Куда ты едешь? Нам скоро снова в море. Давай с нами?
В старомодном купе спального вагона Владимир уезжал. Капитан и семь моряков провожали его на вокзале. Из горла выпили много виски. Отец расцеловался с командой, долго махал из окна рукой. Пошли-поехали пастелевые от виски лесистые горы. Полдня простоял в коридоре перед окном – это стало его железнодорожной привычкой. Поздно вечером он прибыл в Лондон.
Синие лампы тускло освещали перрон. Его никто не встречал. Владимир взял черный кеб. Поднявшись на крыльцо дома № 13 по улице Кенсингтон Пелас Гарден, он нажал на кнопку звонка. Приоткрылась старинная тяжелая дверь. Отец назвал себя. Его впустили. Молодой дипломат, дежуривший в ту ночь, обрадовался нежданному собеседнику. Они стали пить чай.
– Вы верите в чертову дюжину?
– А в чем, собственно, дело?
– Здание под посольство купили по сходной цене из-за номера. Соседние особняки либо разрушены, либо серьезно пострадали от бомбежки, а посольство ничего, хоть бы хны.
– А что, сильно бомбят?
Вошел, зевая, другой сотрудник:
– Кошку не видели?
– Какую кошку?
– Кошка пропала.
Потерявший кошку отвез отца в близлежащую гостиницу.
– Фашисты! Привык я к кошке. Жена осталась в Москве.
– Найдется, – сказал отец.
Он был всегда оптимистом. Ощутив приятное тепло от большой грелки, подложенной в ноги под простыню, он моментально заснул. Спать в те времена отец умел в любом месте, в любом положении. У него был такой здоровый сон, что даже пистолетный выстрел возле уха не смог бы его разбудить. Однако Владимир проснулся глубокой ночью. Кромешная тьма. Одеяло лежало на нем, словно мешок с песком. Отец подумал: упал потолок. Силясь подняться, он услышал, как на пол со звоном посыпались осколки стекла. По комнате гулял ветер. От рам и ставней не осталось и следа. Тяжелый фугас, очевидно, упал неподалеку. Решив, что утро вечера мудренее, отец снова заснул.



