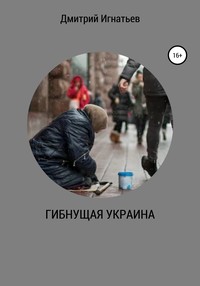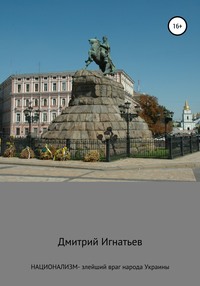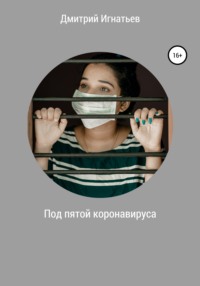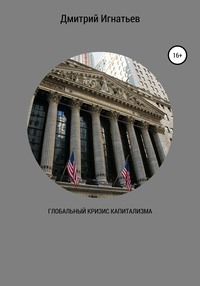полная версия
полная версияКоммунизм против капитализма. Третий раунд
При Хрущёве, как уже отмечалось, эти процессы пошли в обратную стороны, в сторону нарастания товарно-денежных отношений, что создавало экономические условия для возвратного классообразования и возрождения буржуазии в форме теневого капитала. Вместе с этим процессом росла и коррупция. Как отмечает Катасонов, с середины 1950-х гг. до 1986 г., т. е. до начала перестройки, регистрируемое в уголовной практике взяточничество возросло в 25 раз.
Провозглашалось одно, а в жизни происходило прямо противоположное.
Катасонов задаёт вопрос: что хотели теневики получить от партийно-государственных функционеров?
И отвечает на него:
Во-первых, гарантии своей неприкосновенности.
Во-вторых, должности в том же самом партгосаппарате для своих родственников, места в престижных вузах для своих детей, выезд за границу для себя и своей родни.
В-третьих, получение услуг, которые бы способствовали дальнейшему развитию теневого бизнеса, в т. ч. получение дополнительного доступа к товарным фондам (для барыг), к оборудованию и сырью (для цеховиков), создание искусственных дефицитов на товары.
Многие дефициты в советской торговле, отмечает Катасонов, были искусственными и создавались для того, чтобы дополнительно вздувать цены на «чёрном рынке». И он приводит пример из журнала «За рулём» о создании дефицитов на авторынке:
«После создания в СССР в 70-х годах сети «фирменных» станций техобслуживания (СТО), основная часть запчастей стала поставляться именно им. Специализированные магазины получали лишь небольшой процент запчастей, которые немедленно раскупались. Причём общий их выпуск на каждый период времени был подсчитан с учётом естественного износа автопарка, без большого запаса.
Однако вместо ожидавшегося быстрого и удобного для автолюбителя ремонта на практике это привело к неожиданному эффекту в виде возникновения всё более усугублявшегося со временем дефицита запасных частей к легковым автомобилям. Дело же было в том, что созданные на складах СТО запасы запчастей работниками утаивались. Склады, в основной своей массе великолепно снабжавшиеся запчастями СТО, буквально ломились – внезапные проверки ОБХСС (отдел по борьбе с хищением социалистической собственности – подразделение МВД СССР. – В. К.) выявляли наличие десятков и сотен деталей каждого наименования, в т. ч. и наиболее «дефицитных» – при этом обращавшиеся на СТО граждане получали от диспетчеров неизменный отказ под предлогом отсутствия запчастей. Естественно, подобное было бы невозможно без ведома начальства самого различного уровня, хотя доказать наличие преступного сговора было обычно крайне непросто.
Следующим шагом криминального промысла было вовлечение наиболее «сговорчивых» автолюбителей в схему по незаконной продаже запчастей со склада «из-под полы», осуществляемой «на местах» самими работниками СТО или их доверенными лицами. При этом «клиент» оплачивал помимо запчасти ещё и «труд» посредников, а также фиктивную работу по её установке, за счёт чего СТО выполняла спущенный ей план, хотя реально никаких или практически никаких работ в отчётный период могла и не производить, т. е. в противоположность современным аферистам от автосервиса советские не стремились навязать клиенту лишние работы, а, наоборот, старались производить даже те из них, что были зафиксированы, фиктивно. В результате помимо многократной переплаты автовладелец ещё и был вынужден сам устанавливать запчасть на свой автомобиль. В созданной таким образом ситуации, тем не менее, он был доволен и этим.
Торговля похищенными запчастями велась также и на стихийных рынках, как правило, расположенных вблизи крупных автотрасс. Там можно было купить запчасти всегда, в любом количестве и ассортименте, но с огромной переплатой. Например, в середине 80-х госцена комплекта вкладышей коленвала для «Жигулей» составляла вполне доступные 7 руб. 20 коп, но «из-под полы» они продавались по 140 руб. (что сравнимо со среднемесячной зарплатой в те годы – В. К.)».
Метастазы коррупции стали глубоко проникать в жизнь советского общества. Отдельные громкие дела по осуждению коррупционеров уже не могли ничего изменить.
В 1985 г. к власти в партии и стране пришёл Горбачёв – выдвиженец теневого капитала, ставленник крупнейших мировых империалистических кругов. Недаром ещё в бытность секретаря ЦК КПСС Горбачёв вместе с Раисой был принят Маргрет Тэтчер в 1984 г. Англо-саксонский сионистский капитал проводили смотрины будущего предателя и разрушителя Советской Родины. По сути, тогда и было одобрено решение способствовать выдвижению Горбачёва на пост Генсека.
В СССР теневая экономика к середине 80-х годов достигла небывалого расцвета. По некоторым оценкам, треть спроса населения на услуги удовлетворялась теневой экономикой. Хозяйственные связи вне государственного контроля способствовали росту так называемых нетрудовых доходов, выпуску «левой» неучтённой продукции практически во всех областях производства.
Доходы теневиков, по приблизительным экспертным оценкам, в начале 80-х гг. оценивались в 80 млрд. руб., что соответствовало ¼ доходов госбюджета страны.
Уже к 1989 г. специалисты говорили о наличии в стране 100 тысяч (!) подпольных миллионеров, которые стремились легализовать огромные денежные средства. Теневой капитал тогда оценивался в 500 млрд. руб., что составляло сумму, близкую ко всему годовому доходу государственного бюджета СССР. Этому капиталу уже было тесно в рамках формально социалистических отношений. Он требовал выхода на легальную арену.
Социально-экономической основой государственного капитализма стало тесное сращивание теневого подпольного капитала с партийно-государственной верхушкой.
Партийный аппарат всех уровней в начале 80-х гг. составлял примерно 500 тыс. человек (из почти 20-миллионной КПСС) и он полностью оторвался от рабочего класса, от народа и жил уже другой, буржуазной жизнью.
Катасонов в пример приводит состав ЦК КПСС 1981 г.: секретари республиканских ЦК и обкомов (крайкомов) партии – 35 %, работники отделов ЦК КПСС – 9 %, министерские чиновники – 31 %, военные – 7 %, дипломаты – 4 %, деятели культуры – 3 %, работники КГБ – 2 %, профсоюзные деятели – 2 %, т. е. 93 % всего состава ЦК, это – представители бюрократии. Плюс к этим 500 тыс. Катасонов добавляет ещё примерно 1 млн. работников государственно-административного и хозяйственного аппарата – министерства, главки, директора предприятий… Это была бюрократическая верхушка, полностью обуржуазившаяся.
По сути, под видом горбачёвской перестройки была осуществлена контрреволюция, в результате которой был легализован теневой капитал, был реставрирован капитализм.
§ 4. Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации (ОГАС)
Именно в то время, когда Хрущёв начал свои экономические антисталинские «реформы», в Советском Союзе шли работы по созданию автоматизированной системы управления (АСУ) экономикой.
Первым, кто поставил перед высшим руководством страны и научной общественностью вопрос о необходимости управления экономикой СССР в масштабах всей страны на основе повсеместного применения электронно-вычислительных машин (ЭВМ), был Анатолий Иванович Китов.
Первопроходческую роль Китова в создании Единой Государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ) отмечает ряд известных отечественных и зарубежных историков науки. Так, сотрудник Института истории науки им. И. Ньютона при Массачусетском технологическом институте С. Герович (S. Gerovich) пишет: «Первое предложение создать в СССР общенациональную компьютерную сеть многоцелевого назначения, в первую очередь для экономического управления в масштабе всей страны, поступило непосредственно из Вооружённых Сил СССР от инженер-полковника Анатолия Ивановича Китова». Об этом же пишет и известный учёный и историк информатики Б. Н. Малиновский: «Осенью 1959 г. А. И. Китову пришла в голову идея о целесообразности создания единой автоматизированной системы для управления Вооружённых Сил и народного хозяйства страны на базе общесоюзной сети вычислительных центров, создаваемых и обслуживаемых Министерством обороны. При большом отставании в производстве ЭВМ от США, концентрация выпускаемых ЭВМ в мощных вычислительных центрах и их чёткая и надёжная эксплуатация военным персоналом позволили бы сделать резкий скачок в использовании ЭВМ».
Ещё в начале 1956 г. Китовым впервые было сказано о возможности автоматизации управления на основе применения ЭВМ в написанной им книге «Электронные цифровые машины» – первой отечественной книге по ЭВМ и программированию. Г. И. Марчук, президент Академии наук СССР в 1986–1991 гг., сказал, что эта книга Китова «фактически сделала переворот в сознании многих исследователей». Б. Н. Малиновский указывает, что В. М. Глушков свои первые компьютерные знания получил именно из этой книги: «Ещё до приезда в Киев, живя в Свердловске, Глушков в 1956 г. прочитал его книгу «Электронные цифровые машины» – первую книгу-учебник по вычислительной технике». В. П. Исаев указывает: «Эту монографию А. И. Китова можно считать предтечей отечественных АСУ».
В 1958 г. Китов поставил вопрос о создании системы управления экономикой СССР на основе единой государственной сети ЭВМ в общесоюзном масштабе. Это своё предложение он продекларировал в брошюре «Электронные вычислительные машины», опубликованной массовым тиражом Всесоюзным обществом «Знание». В этой работе впервые в СССР была изложена перспектива «комплексной автоматизации информационной работы и процессов административного управления и планирования в масштабах всей страны». Предлагалось объединить все крупные вычислительные центры в Единую государственную сеть вычислительных центров.
Предложение о перестройке управления экономикой СССР путём создания общегосударственной автоматизированной системы управления народным хозяйством страны на основе ЕГСВЦ содержалось в письме Китова Хрущёву, которое он направил в ЦК КПСС 7 января 1959 г. В этом письме он предложил создать общенациональную компьютерную сеть многоцелевого назначения, предназначенную для планирования и управления экономикой в масштабе всей страны. Там же Китов предложил главе правительства СССР «чтобы дело не было пущено на самотёк», создать единый координирующий общесоюзный орган по разработке, внедрению и эксплуатации всех АСУ в стране – Госкомупр. Китов считал, что без создания такого органа, подчиняющегося кому-нибудь из членов Политбюро ЦК КПСС, дело создания общегосударственной АСУ будет обречено на неудачу. По мнению Китова, создание Госкомупра позволило бы вести работы по АСУ по согласованным централизованным планам, и было бы свидетельством того, что высшее руководство СССР «не на словах, а на деле» поддерживает создание Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС) управления народным хозяйством страны.
Руководство страны частично поддержало предложения, содержащиеся в письме Китова. Было принято совместное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР (май 1959) об ускоренном создании новых ЭВМ и широком их использовании в различных областях народного хозяйства. Однако главное предложение Китова об автоматизации управления экономикой всего СССР на основе создания ЕГСВЦ в этом Постановлении учтено не было. Также не был создан и Госкомупр.
Осенью 1959 г. Китов послал Хрущёву второе письмо, в котором он предложил способ существенного сокращения затрат государства на создание ОГАС по управлению экономикой страны на основе ЕГСВЦ. Это письмо содержало разработанный Китовым ещё более радикальный 200-страничный проект «Красная книга» – проект создания Общесоюзной сети двойного назначения – военного и гражданского, для управления экономикой страны в мирное время и Вооружёнными Силами СССР – в военное.
Китов предлагал вместо распыления по десяткам тысяч предприятий, учреждений и организаций средств ВТ сосредоточить их в Единой государственной сети мощных вычислительных центров военного подчинения. В мирное время эти центры должны были решать народно-хозяйственные и научно-технические задачи как для центральных органов, так и для региональных предприятий и учреждений. Военные задачи должны были решаться в случае возникновения «особых периодов», обслуживаться эти ВЦ должны были военным персоналом.
Научный руководитель НПО «Квант» академик РАН В. К. Левин в своей статье «Наше общее дело» пишет: «Большой резонанс имело письмо Анатолия Ивановича Китова в правительственные инстанции в 1959 г., где им было выдвинуто предложение об объединении между собой систем ЭВМ, распределённых на территории всей страны, и о создании тем самым сети ВЦ общегосударственного значения в интересах народного хозяйства и обороны. По существу, предопределялось то, что впоследствии получило мировое развитие и сейчас называется Grid-технологиями – объединение многих вычислительных ресурсов для решения задач глобального масштаба».
В 1959–1962 гг. Китов продолжает отстаивать и пропагандировать свои взгляды в докладах и публикациях. Важное значение имел сделанный им в 1959 г. доклад «О возможностях автоматизации управления народным хозяйством» на Всесоюзной конференции по математике и вычислительной технике – первый в стране доклад по тематике АСУ. Это подчёркивал и В. М. Глушков в своих лекциях, которые он читал в Академии управления народным хозяйством для управленцев СССР высшего звена. Позднее этот первый в стране доклад по АСУ в виде отдельной статьи был опубликован в 1961 г. в преддверии XXII съезда КПСС.
Это была пионерская основополагающая работа о насущной необходимости перестройки в СССР технологии управления путём создания Общегосударственной автоматизированной системы управления экономикой. В статье вся советская экономика интерпретировалась как «сложная кибернетическая система, которая включает огромное число взаимосвязанных контролируемых циклов». Китов предлагал оптимизировать функционирование этой системы, создавая большое количество распределённых по территории СССР региональных вычислительных центров для того, чтобы собирать, обрабатывать и перераспределять экономические данные для эффективного планирования и управления. Как предлагал Китов, объединение всех этих ВЦ в общенациональную сеть привело бы к созданию «Единой централизованной автоматизированной системы управления народным хозяйством страны». Статья получила большой резонанс в Советском Союзе и за рубежом, в частности, в США, где была опубликована в известном журнале Operations Research (Vol.11, #6, Nov.-Dec.) развёрнутая положительная рецензия, в которой особо выделялся раздел статьи Китова, посвящённый ЕГСВЦ.
Китов убеждал руководство страны в том, что реализация его проекта «Красная книга» позволит СССР обогнать США в области разработки и использования вычислительной техники, не догоняя их (как он говорил «Обогнать, не догоняя»). Однако резкая критика состояния дел в МО страны с внедрением ЭВМ, содержащаяся в преамбуле к докладу, подготовленному осенью 1959 г. для ЦК КПСС, а также предложения по коренной перестройке системы управления как в Министерстве обороны, так и в высших эшелонах власти СССР, содержащиеся в докладе, определили негативное отношение к докладу со стороны руководства МО СССР и работников аппарата ЦК КПСС, что в конечном итоге привело к исключению Китова из КПСС и снятию с занимаемой должности. Проект «Красная книга» был отвергнут.
Погибнуть идее Китова не дал директор Института кибернетики АН УССР академик Виктор Михайлович Глушков (1923–1982). В 1962 г. Глушков подсчитал, что при сохранении неизменным уровня технической оснащённости сферы планирования, управления и учёта (а он был и для того времени совершенно недостаточным) уже в 1980 г. потребовалось бы занять в этой сфере всё взрослое население Советского Союза.
Глушков переосмыслил идеи Китова и заручился в 1962 г. поддержкой А. Н. Косыгина, бывшего в то время заместителем Председателя Совета министров СССР, активизации работ по созданию АСУ. В стране началась масштабная кампания по созданию АСУ в государственных ведомствах и на предприятиях, которая захватила сотни тысяч граждан и продолжалась до начала горбачёвской перестройки.
Глушков обладал большими полномочиями: «Я имел возможность прийти в любой кабинет – к министру, председателю Госплана – и задавать вопросы или просто сесть в уголке и смотреть, как он работает», – отмечает академик. Помимо знакомства со стилем работы высших органов управления, Глушков активно ездил по стране, изучал работу шахт, железных дорог, морских портов, аэропортов и заводов самых разнообразных отраслей. За один 1963 г. Глушков посетил больше сотни объектов народного хозяйства, а затем в течение ещё десяти лет их число многократно возросло.
По замыслу Глушкова, основное назначение ОГАС – с помощью вычислительной техники «обуздать» потоки экономической информации, получить в памяти ЭВМ объективный образ происходящих в экономике процессов, обеспечить управленцев оперативными и точными данными, научиться моделировать и прогнозировать экономическое развитие. Технически ОГАС представлялась ему как единая, масштаба всей страны, система из тысяч вычислительных центров, отдельных АСУ предприятий (АСУП) и автоматизированных систем отраслевого управления (ОАСУ). В качестве примера, показывающего эффект от внедрения АСУП, можно привести Львовский телевизионный завод, который стал одним из первых, где была создана АСУП. В ЭВМ поступала информация с пяти складов, нескольких конвейеров и множества датчиков, установленных на различных участках производства. В результате применения АСУП удалось добиться высокой слаженности работы всего предприятия. Также удалось снизить уровень производственных запасов на 15 %, на 15 % сократился цикл производства.
Ключевым моментом для реализации ОГАС было создание Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ). Сеть должна была объединить 100–200 крупных вычислительных центров в промышленных городах и экономических центрах. В рамках ОГАС задумывалось также развертывание распределенного банка данных и разработка системы математических моделей управления экономикой. Предполагалось, что из любой точки системы можно будет получить доступ к любой информации, конечно, при наличии соответствующих полномочий, которые проверялись бы автоматически. Кроме этого ОГАС предусматривала безденежную систему расчетов населения.
К середине 1964 г. под руководством Глушкова группой советских учёных, в которую входил и Китов, был разработан предэскизный проект ЕГСВЦ. Китов в течение пяти лет был соратником и заместителем Глушкова по работам, проводимым в области АСУ в девяти оборонных министерствах страны. В 1964 г. проект был представлен правительству СССР. Но тут заволновались американцы. По словам советника Кеннеди, ставка на кибернетику давала СССР огромное преимущество, и если США будут продолжать её игнорировать, то в ближайшее время с ними «будет покончено».
Заволновались и доморощенные советские бюрократы, которые очень боялись потерять свою власть и влияние. Сначала восстало руководство ЦСУ (Центральное статистическое управление), затем пошли бесконечные комиссии по изучению проекта, не дававшие делу сдвинуться с мертвой точки.
Как вспоминал В.М,Глушков:
«… каждую неделю почти мы заседали и смотрели проект по страницам – а проект был очень толстый, несколько книг (1500 и 2000 страниц). И происходило так: Федоренко возражает против этого положения – выбросили его, министерство финансов возражает против того – тоже выкинули. И так далее. В конце концов, от проекта, от его экономической, собственно, части почти ничего не осталось, осталась только сама сеть…
А против всего проекта в целом начал резко возражать Старовский В. Н., который тогда был начальником ЦСУ. Возражения его были демагогическими. Мы настаивали на новой системе учета, такой, чтобы из любой точки любые сведения можно было в тот же момент получить. А он начал ссылаться на то, что в 1922 г. по инициативе В. И. Ленина ЦСУ было организовано, что ЦСУ справляется, сбегал к А. Н. Косыгину, получил от него заверения, что той информации, которую дает правительству ЦСУ, достаточно для управления, и что поэтому ничего делать не надо…
Начиная с 1964 года (времени появления моего проекта) против меня стали открыто выступать ученые-экономисты Либерман, Белкин, Бирман и другие, многие из которых потом уехали в США и Израиль (Либерман, Бирман какие говорящие фамилии!). Косыгин, будучи очень практичным человеком, заинтересовался возможной стоимостью нашего проекта. По предварительным подсчетам его реализация обошлась бы в 20 миллиардов рублей. Основную часть работы можно сделать за три пятилетки, но только при условии, что эта программа будет организована так, как атомная и космическая. Я не скрывал от Косыгина, что она сложнее космической и атомной программ, вместе взятых, и организационно гораздо труднее, так как затрагивает все и всех: и промышленность, и торговлю, планирующие органы, и сферу управления, и т. д. Хотя стоимость проекта ориентировочно оценивалась в 20 миллиардов рублей, рабочая схема его реализации предусматривала, что вложенные в первой пятилетке первые 5 миллиардов рублей в конце пятилетки дадут отдачу более 5 миллиардов, поскольку мы предусмотрели самоокупаемость затрат на программу. А всего за три пятилетки реализация программы принесла бы в бюджет не менее 100 миллиардов рублей. И это еще очень заниженная цифра».
Как раз тогда в США была впервые обнародована идея Ликлайдера о распределённой сети компьютеров, но к проектированию ARPANET (прообраза интернета) даже ещё не приступали. Так что масштабная идея Глушкова и его соратников значительно опередила своё время.
В 70-х материалы об ОГАС были рассекречены, в 1972 году проект упоминался в директивах XXIV съезда КПСС. И в это же время появляются резкие антиглушковские публикации в западной прессе. Они, с одной стороны, предостерегали власти, что Глушков намерен заменить кремлевское руководство вычислительными машинами. С другой – должны были подействовать на интеллигенцию: автор одной из статей выдвигал версию о том, что сеть с банками данных делается по заказу КГБ для тотальной слежки за советскими гражданами. Глушков был убежден, что причиной этой вакханалии были небезосновательные опасения, что ОГАС сможет значительно укрепить экономику СССР. Одновременно формировалась мощная оппозиция идеям Глушкова со стороны советских экономистов.
Из воспоминаний В. М. Глушкова:
«Заволновались американцы. Потому что они не на войну делают ставку – это только прикрытие, они гонкой вооружений стремятся задавить нашу экономику… И, конечно, любое укрепление нашей экономики – это для них самое страшное, что только может быть. Поэтому они сразу по мне открыли огонь всеми калибрами, какими только можно. Появилось сначала две статьи – одна в «Вашингтон пост» Виктора Зорзы, а вторая – в английской «Гардиан». Статья Виктора Зорзы называлась «Перфокарта управляет Кремлем», рассчитана была на наших руководителей. Там было написано так, «Царь советской кибернетики академик В. М. Глушков предлагает заменить кремлевских руководителей вычислительными машинами». Ну и так далее, так они умеют, низкопробная такая статья.
Статья в «Гардиан» была рассчитана на советскую интеллигенцию. Там было сказано, что, вот В. М. Глушков предлагает сеть вычислительных центров с банком данных, что это, конечно, звучит очень современно, и это более передовое, чем есть сейчас на Западе, но что это есть на самом деле не для экономики, а что это заказ КГБ на то, чтобы мысли советских граждан упрятать в эти банки данных и следить за каждым человеком.
Эту вторую статью все «голоса», которые есть: и «Голос Америки», и «Би-би-си», и «Немецкая волна» – передавали раз пятнадцать на разных языках на Советский Союз и страны социалистического лагеря.
Потом последовала целая серия перепечаток других ведущих капиталистических газет: и американских, и западноевропейских, потом серия новых статей. Тогда же вот странные вещи начали случаться с самолётами. Кстати, непонятно, против меня ли это была диверсия тогда, когда Ил-62 из Монреаля в 1970 г. вылетел и вынужден был вернуться: в горючее что-то подсыпали, летчик опытный почувствовал что-то неладное, уже когда мы летели над Атлантикой, и возвратился назад. Слава богу, все обошлось, но это дело так и осталось загадкой. А позже немного был случай в Югославии, когда на нашу машину чуть не налетел грузовик, который поехал на красный свет – шофер чудом сумел увернуться. Поджог квартиры в Москве в ночь на 1 Мая.
И наша вся оппозиция, в частности экономическая, на меня ополчилась. В начале 1972 г. в «Известиях» была опубликована статья Мильнера, он тогда был заместителем директора Института Соединенных Штатов Америки Арбатова.
Статья называлась «Уроки электронного бума». В ней он пытался доказывать, что американцы переболели этой болезнью, что теперь у них уже вычислительных машин никто не берет, и спрос на машины упал.