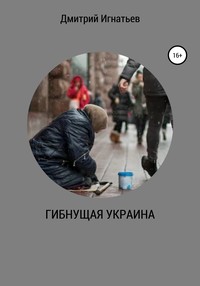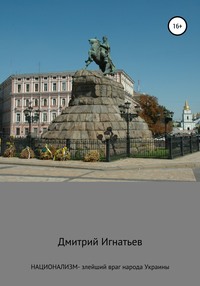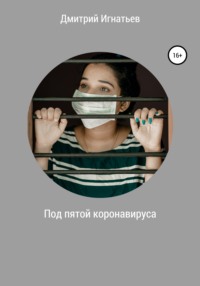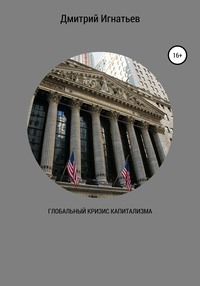полная версия
полная версияКоммунизм против капитализма. Третий раунд
– Стремление к частной выгоде толкало руководство предприятий к фиктивному завышению объёмов производства, к расширению повторного счёта стоимости сырья, полуфабрикатов, а зачастую и готовой продукции, к повышению материалоёмкости изделий и удорожанию продукции, к вымыванию дешёвого ассортимента, к припискам.
Всё это создало базу для формирования теневой экономики.
– Установившиеся отношения вели к разрушению коллективизма, складывавшегося в нашей стране в сталинские годы, к нежеланию трудовых коллективов работать с полной отдачей в интересах всего общества.
В тот период планы устанавливались «от достигнутого», что вынуждало предприятия утаивать резервы производства, чтобы иметь возможность выполнить и перевыполнить ненапряжённый план. Директор совхоза «40 лет Казахстана» Целиноградской области утверждал, что «действующая система стимулирования заставляет не вскрывать, а скрывать резервы».
Снижение эффективности советской экономики, – отмечает В. Катасонов, – частично компенсировалось и камуфлировалось усилением её сырьевой ориентации и наращиванием экспортной выручки от вывоза нефти, металла, леса, золота. По данным официальной статистики, экспорт нефти и нефтепродуктов из СССР вырос с 75,7 млн. т в 1965 г. до 193,5 млн. т в 1985. При этом экспорт за свободно конвертируемую валюту составлял, соответственно, 36,6 и 80,7 млн. т. Выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов, составлявшая в 1965 г. порядка 0,67 млрд. долл., к 1985 г. увеличилась почти в 20 раз и составила 12,84 млрд. долл. Кроме того, в значительных объёмах с 70-х годов начал экспортироваться природный газ. Добыча газа в этот период увеличилась со 127,7 млрд. куб. м до 643 млрд. Практически вся новая добыча золота также шла на мировой рынок. Согласно зарубежным оценкам, в 1970–79 гг. Советским Союзом было экспортировано более 2000 т золота. Большая часть валютной выручки тратилась на импорт продовольствия и закупку товаров народного потребления. Страна начала жить за счёт природной ренты, за счёт распродажи важнейших природно-сырьевых ресурсов страны.
§ 3. Формирование теневого капитала в хрущёвско-брежневские годы, экономического базиса разрушения СССР
Достаточно подробно этот вопрос исследован в рассматриваемой нами книге В. Катасонова «Экономика Сталина».
Вначале автор напоминает нам, что в период нэпа была сделана ставка на использование товарно-денежных отношений для восстановления экономики при сохранении командных высот в руках пролетарского государства (диктатура пролетариата). Пролетарское государство должно было ограничивать масштабы частного капитала в стране и пресекать его притязания на политическую власть.
В промышленности и торговле возник частный сектор: некоторые государственные предприятия были денационализированы, другие сданы в аренду; было разрешено создание собственных промышленных предприятий частным лицам с числом занятых не более 20 чел. (позднее этот потолок был поднят). Среди арендованных частниками фабрик были такие, которые насчитывали 200–300 чел., а в целом на долю частного сектора, отмечает Катасонов, в период нэпа приходилось около пятой части (20 %) промышленной продукции, 40–80 % розничной и небольшая часть оптовой торговли.
После национализации всех иностранных активов в Советской России в годы «военного коммунизма», в период нэпа вновь началось привлечение иностранного капитала. Ряд предприятий был сдан в аренду в форме концессий. В 1926–27 гг. насчитывалось 117 действующих соглашений такого рода. Они охватывали предприятия, на которых работало 18 тыс. человек и выпускалось чуть более 1 % промышленной продукции, то есть, в общем-то, совсем небольшая часть. Но в некоторых отраслях удельный вес концессионных предприятий и смешанных акционерных обществ, в которых иностранцы владели частью пая, был значителен: в добыче марганцевой руды – 85 %, свинца и серебра – 60 %, золота – 30 %, в производстве одежды и предметов туалета – 22 %, – приводит цифры Катасонов. Помимо капиталов, в СССР направлялся поток рабочих-иммигрантов со всего мира. В 1922 г. американским профсоюзом швейников и Советским правительством была создана Русско-американская индустриальная корпорация (РАИК), которой были переданы шесть текстильных и швейных фабрик в Петрограде, четыре – в Москве.
Большая ставка была сделана на кооперативные формы ведения хозяйства. Правда, в период нэпа роль производственных кооперативов в сельском хозяйстве была незначительной – в 1927 г. они давали только 2 % всей сельскохозяйственной продукции и 7 % товарной продукции. Зато простейшими формами кооперации – сбытовой, снабженческой и кредитной – было охвачено к концу 20-х годов более половины всех крестьянских хозяйств, – отмечает автор. К концу 1928 г. непроизводственной кооперацией различных видов, прежде всего крестьянской, было охвачено 28 млн. человек. В обобществлённой розничной торговле 60–80 % приходилось на кооперативные организации и только 20–40 % – на государственные. В промышленности в 1928 г. 13 % всей продукции давали кооперативы. Существовали кооперативные банки и кооперативные страховые компании.
После начала наступления на частный капитал в период индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, частный капитал не исчез полностью, но ушёл в тень, в подполье, где он просуществовал ещё несколько лет.
В 1930-е годы велась активная борьба по искоренению остатков нелегального капитала. Накануне войны его практически не осталось, случалась лишь бытовая спекуляция. Т. е., как отмечал Сталин, социалистические производственные отношения в нашей стране победили, с частной собственностью на орудия и средства производства было покончено.
Для борьбы с возможностью возрождения капитала принимались меры двоякого характера, отмечает профессор. С одной стороны, меры карательные, которые пресекали хищения социалистической собственности и иные злоупотребления. С другой стороны, меры поощрительные – поощрялось мелкотоварное (индивидуальное и кооперативное) производство для преодоления дефицитов на потребительском рынке товаров.
Сталинское руководство прекрасно понимало, что любой дефицит – питательная почва для хищений, контрабанды, спекуляций, организации подпольного производства дефицитных товаров и т. д. Поэтому поощрялось, в частности, подсобное хозяйство на селе. Часть времени крестьянин трудился в колхозе, а часть – на своём приусадебном участке. Продукция с этого участка частично потреблялась семьёй крестьянина, частично вывозилась на рынок и продавалась горожанам. Продукция могла реализовываться как самим крестьянином на колхозных рынках, так и сдаваться для реализации через систему кооперативной торговли. В общем объёме розничного товарооборота в 1940 г. на государственную торговлю приходилось 62,7 %, на кооперативную – 23 %, на колхозные рынки – 14,3 %.
Но в годы Великой Отечественной войны в стране вновь начал складываться теневой капитал. Питательной основой для него стали спекуляции продовольствием, фальшивые советские денежные знаки (их печатали в фашистской Германии и забрасывали на территорию Советского Союза), грабежи (в т. ч. завладение крупными денежными суммами во время эвакуации банковских учреждений). Кроме того, следует учитывать появление на территории СССР в конце войны большого количества иностранной валюты и трофейных предметов (промышленных и продовольственных товаров, картин, ювелирных изделий, антиквариата и т. п.), ставших предметами спекуляций и источником незаконного обогащения. Необходимо было действовать решительно и точно, чтобы не допустить расползания теневого капитала, который мог нанести серьёзный урон делу строительства социализма.
По теневому капиталу после войны было нанесено два главных удара, отмечает Катасонов.
Первый, – это денежная реформа 1947 г., о которой мы уже писали.
Второй – организованная правоохранительными органами СССР кампания по выявлению и наказанию лиц, совершавших разные виды экономических преступлений, – цеховиков, перекупщиков, фальшивомонетчиков, не говоря уже про банальных мошенников, аферистов и воров. Кампания проводилась в конце 40-х гг. Только в 1949 г. за такие преступления было осуждено на длительные сроки более 100 тыс. человек. И в конце 40-х гг. экономические статьи из списка расстрельных были изъяты.
Как отмечает исследователь теневой экономики в СССР Михаил Козырев «В сталинские десятилетия в СССР процветали так называемые кустари и их артели, если говорить простым языком – разного рода малый и очень малый бизнес, что в свете устоявшегося мнения об СССР 1930–1950-х гг. как о тоталитарном государстве, безжалостно подавляющем любые ростки самостоятельности и инакомыслия (в экономике, политике, искусстве), выглядит несколько неожиданно. Но фактом остаётся то, что в конце 1940-х – начале 1950-х гг. разного рода малым частным предпринимательством занимались сотни тысяч, если не миллионы человек… После войны советская экономика лежала в руинах. Начавшаяся гонка вооружений требовала ускоренного восстановления тяжёлой промышленности, которая пожирала все наличные ресурсы государства». Поэтому в стране продолжал существовать обширный мелкотоварный сектор в виде потребительской, промысловой и сельскохозяйственной кооперации, кооперации инвалидов и т. п.
«К концу 1950-х гг. прошлого века в СССР было зарегистрировано около 150 000 артелей (кооперативов) и частников-кустарей», – приводит данные М. Козырев.
В 1946 г., 9 ноября было принято постановление «О развёртывании кооперативной торговли в городах и посёлках продовольствием и промышленными товарами и об увеличении производства продовольствия и товаров широкого потребления кооперативными предприятиями», в котором были определены основные направления по деятельности кооперации в послевоенные годы. Меры, принятые правительством, дали свои плоды. В 1945 г. по стране было открыто около 25 тыс. магазинов и торговых палаток; в 1946 г. – 40 тыс. К концу 1947 г. в стране насчитывалось 256 тыс. магазинов и 89,3 тыс. торговых палаток. Количество предприятий общественного питания возросло с 73,4 тыс. в конце 1945 г. до 82,1 тыс. в конце 1947 г.
Даже в городах не было абсолютного доминирования государственного сектора. В 1952 г. мелкотоварный сектор (так Катасонов именует промысловую кооперацию) составлял, по разным оценкам, от 6 до 8 % производства товаров народного потребления и бытовых услуг. Этот сектор был представлен всевозможными кустарными мастерскими: пошивочными, слесарно-ремонтными, ювелирными, часовыми. В нём также были такие виды деятельности как заготовка утильсырья, бытовые строительные и ремонтные работы, преподавание и репетиторство, кустарные производства и пр. Такие промыслы осуществлялись при наличии патентов и ограничивались законодательно только численностью наёмных работников.
Промысловая кооперация продолжала существовать и после смерти Сталина, до конца 1950-х гг. и до некоторой степени компенсировала дефицит товаров народного потребления. К концу 1950-х гг. в её системе насчитывалось свыше 114 тыс. мастерских и других промышленных предприятий, где работали 1,8 млн. человек. Они производили 5,9 % валовой продукции промышленности, например до 40 % всей мебели, до 70 % всей металлической посуды, более трети верхнего трикотажа, почти все детские игрушки. В систему промысловой кооперации входили 100 конструкторских бюро, 22 экспериментальные лаборатории и два научно-исследовательских института.
Демонтаж сталинской экономики начался в хрущёвские годы, о чём мы уже подробно писали.
Но Хрущёвым был нанесён удар и по мелкотоварному производству.
Во-первых, отмечает Катасонов, были почти полностью ликвидированы приусадебные (подсобные) хозяйства колхозников. В период 1953–58 гг. происходило неуклонное наращивание продукции личных подсобных хозяйств крестьян. Однако с конца 50-х гг. ситуация начала резко ухудшаться. В 1959 г. было принято решение об обобществлении скота, который находился в личных хозяйствах колхозников (он в добровольно-принудительном порядке передавался колхозам). Одновременно произошло урезание размеров приусадебных участков. Были также непродуманные решения об укрупнении колхозов, превращении колхозов в совхозы (государственные сельскохозяйственные предприятия – советское хозяйство), ликвидации МТС, резком ограничении колхозных рынков и многое другое. Всё это в совокупности сильно осложнило жизнь колхозного крестьянства. Только за 1960–64 гг. из села в город переместилось около 7 млн. человек. Деревня обезлюдела. Одновременно усилился дефицит многих продовольственных товаров не только в государственных и кооперативных магазинах, но и на колхозных рынках, деятельность которых также была сильно ограничена.
Во-вторых, был нанесён удар по промысловой (производственной) кооперации. 14 апреля 1956 г. появилось постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой кооперации», в соответствии с которым её предприятия подлежали передаче в ведение государственных органов. К середине 60-х гг. промысловую кооперацию полностью ликвидировали. (Катасонов при этом отмечает, что осталась только система потребительской кооперации, жилищно-строительная кооперация, артельные народные промыслы, а также старательские артели по добыче золота).
Т.е. Хрущёв поступал как обыкновенный мелкобуржуазный деятель, стремясь прыжком из социализма перепрыгнуть в коммунизм, не отдавая себе отчёт в том, что коммунизм представляет из себя безтоварное производство, в котором уже ликвидированы товарно-денежные отношения; не понимая того, что этот переход должен осуществляться постепенно, по мере развития производительных сил, по мере подтягивания колхозно-кооперативной собственности к общенародной по плану, намеченному Сталиным. Но Хрущёв делал всё вопреки Сталину. Отсюда постоянное ухудшение результатов, отсюда его «реформистские» метания и заседательская суета.
Создание дефицита товаров народного потребления и продуктов питания, естественно, способствовало формированию и разрастанию теневой экономики.
Быстрой активизации теневой экономики способствовало и резкое ослабление контрольных функций государства в области экономической деятельности, произошедшее после смерти Сталина.
После 1953 г. произошло почти полное сворачивание функций МВД СССР в части экономического контроля. Одновременно происходило сокращение экономического контроля и со стороны прокуратуры, Министерства государственного контроля, Министерства финансов, Госбанка, других ведомств. Что это, как не сознательная хрущёвская диверсия, направленная на экономическое ослабление и расшатывание пролетарского государства, его экономического базиса – общественной собственности на орудия и средства производства.
Эйфория экономической свободы длилась примерно 5–7 лет. Экономическая преступность в разных сферах стремительно нарастала – хищения социалистической собственности, приписки, взятки, незаконное обналичивание денежных средств предприятий, создание подпольных производств, нелегальная торговля дефицитом, операции с валютой и т. д., и т. п.
Дело зашло так далеко, что в начале 60-х гг. началась тщательная проверка деятельности хозяйственных организаций и органов власти, были выявлены очень значительные размеры коррупции и злоупотреблений. К суду тогда было привлечено около 12 тыс. руководящих, в т. ч. 4 тыс. партийных работников. Хрущёв вновь вводит смертную казнь за экономические преступления. В 1961 г. количество смертных приговоров за экономические преступления составило 1990, в 1962–2159. В дальнейшем это количество стало сокращаться. 27 ноября 1962 г. совместным постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР был образован общесоюзный Комитет партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР, и соответствующие органы на местах.
Но уже было поздно. «Джина» экономической преступности, выпущенного на свободу в 50-е годы, загнать обратно в бутылку так и не удалось.
Начали уже открыто сказываться последствия антисталинской кампании, развязанной Хрущёвым.
Далее Катасонов рисует картину теневой экономики при Хрущёве, которая была представлена в виде так называемых цеховиков и барыг.
Цеховиками называли тех, кто организовывал производство дефицитных товаров из неучтённого сырья и материалов либо на производственных мощностях действовавших предприятий, либо в специальных помещениях на неучтённом оборудовании. Фактически это был производственный капитал.
Первым разоблачённым цеховиком был Шая Шакерман. Устроившись начальником мастерских в психоневрологическом диспансере, в 1958 г. он закупил промышленные швейные и вязальные машины, которые тайком установил в бараках лечебницы. На них больные изготавливали модную одежду. Подельником Шакермана был Борис Ройфман, директор Перовской текстильной фабрики, имевшей 60 подпольных предприятий в разных регионах страны. В 1962 г. оба цеховика были арестованы. При обысках у них было изъято ценностей на сумму около 3,5 млн. руб. В 1963 г. оба были приговорены к смертной казни.
Барыгами называли тех, кто имел доступ к товарным фондам советской торговли и занимался реализацией товаров из-под прилавка. Иногда барыги выстраивали достаточно сложные схемы сбыта дефицита, в которых были задействованы сотни и тысячи людей. Барыги представляли торговый капитал.
Начинали они со спекуляций товарами народного потребления. Позднее товарный ассортимент деятельности барыг расширился, они начали торговать продуктами и материалами, которые использовались в промышленном и сельскохозяйственном производстве, строительстве, на транспорте. Это такая промежуточная продукция как цемент, кирпич, пиломатериалы, бензин, солярка, химические удобрения и т. п. Часть такой продукции шла цеховикам, часть сбывалась для личного использования. Для этого на государственных предприятиях пользовались приписками, в том числе завышая расход материалов и другой промежуточной продукции. Приписки помогали фиктивно выполнять и перевыполнять план, а образовавшиеся излишки материалов списывались. Вот пример, правда, уже из брежневского периода: колхозы и совхозы Тюменской области в 1977 г. продали за наличные деньги на сторону 637 т дизельного топлива и 2830 т бензина.
Были ещё и обычные спекулянты, которые не были встроены в какие-то устойчивые цепочки сбыта, а действовали стихийно, самостоятельно. Разновидностью спекулянтов были фарцовщики. Они занимались реализацией товаров, выменянных или перекупленных у иностранцев. Этот вид спекуляции существовал преимущественно в Москве, Ленинграде, крупных портовых городах. Фарцовщики стали достаточно распространённым явлением после VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве в 1957 г. Кроме импорта, реализовывалась и советская продукция, зачастую под видом фирменной, создававшаяся в подпольных цехах. Фарцовщики нередко были и валютчиками, т. е. занимались куплей и продажей иностранной валюты, что квалифицировалось как уголовное преступление, так как в стране была государственная валютная монополия.
Именно при Хрущёве начали наблюдаться признаки сращивания теневой экономики с партийно-государственным аппаратом – сначала на уровне районов и городов, а затем и выше. Современный исследователь советской подпольной экономики К. Скоркин пишет об этом сращивании: «Преодоление последствия культа личности освободило сознание партийно-советских функционеров от страха за свою шкуру (выделено мною, Д. И.), сформировало психологию корпоративной безнаказанности. Это величайшее достижение хрущёвской «демократии». Важно также отметить, что уровень жизни партийно-советских функционеров районного и городского звена к началу шестидесятых годов был относительно низок. Зато их бытовые потребности за послевоенные годы постоянно росли. Теневой капитал предложил таким мелким функционерам КПСС и Советской власти дополнительный доход в материальной и денежной форме через систему государственной торговли. Такой подкуп партийно-советских функционеров районного уровня осуществлялся десять лет. Он завершился к началу семидесятых годов». И Скоркин далее пишет: «Кормильцем районных функционеров партийного и советского аппарата являлся теневой капитал». А если он являлся кормильцем, то всё более влиял на принятие решений в районе, а затем и на более высоких этажах власти. Теневая экономика продолжала укрепляться все последующие годы вплоть до перестройки Горбачёва.
В стране, по мнению некоторых исследователей, стал складываться государственный капитализм. Член Коммунистической партии Германии (ФРГ) Вилли Дикхут выпустил книгу «Реставрация капитализма в Советском Союзе» («Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion»); она выходила частями в 1971–1988 гг.; в России была опубликована в 2004 г.
По мнению Дикхута, Хрущёв не просто совершил ряд ошибок в деле социалистического строительства. При нём в конце 1950-х – начале 60-х произошла реставрация капитализма. Этот вывод немецкого коммуниста вытекал из другого шокирующего вывода о том, что партийно-государственная бюрократия в СССР начала превращаться в буржуазию, т. е. в СССР стал складываться государственный капитализм. Реставрация капитализма начала складываться с ХХ съезда КПСС, на котором Хрущёв развенчал «культ личности» Сталина. Дикхут совершенно правильно оценил секретный доклад Хрущёва, сказав, что удар наносился не лично по Сталину, а по той модели социально-экономического развития СССР¸ которая была разработана и практически воплощалась в жизнь Сталиным.
Немецкий коммунист, отмечает Катасонов, датирует полную реставрацию капитализма как раз тем временем, когда Хрущёв на XXII съезде КПСС (1961 г.) провозгласил, что к 1980 г. в СССР будет построен коммунизм. Провозгласил одно, а сформировано то было другое.
Впрочем, по моему мнению, госкапитализм у нас в стране в хрущёвско-брежневский период ещё сформирован не был. Всё-таки господствующей формой собственности была собственность общественная. Но предпосылки к реставрации капитализма в лице формировавшегося теневого капитала и началом обуржуазивания, перерождения партийно-государственного руководства, были созданы.
По мнению некоторых исследователей, отмечает Катасонов, реформа Косыгина-Либермана является плодом не каких-то умственных размышления и открытий, а результатом лоббистских усилий со стороны теневого капитала. Так, Скоркин пишет: «К 1965 г. теневой капитал настолько окреп и обнаглел, что предпринял впервые в СССР попытку повлиять на экономическую политику ЦК КПСС. Именно он инициировал так называемую реформу 1965–1966 гг.».
Я уже писало о том, что заказчиком реформы Косыгина-Либермана выступал мировой сионистский капитал. Но то, что эта реформа проводилась в интересах теневого капитала, в интересах формирующегося класса буржуазии, это несомненно.
Разрушительные последствия реформы 1965 г. не заставили себя ждать. Уже в 1966–1967 гг. органами МВД СССР были ликвидированы подпольные цеха на 45 государственных заводах и фабриках, относящихся к пищевой, лёгкой и текстильной промышленности, производства строительного материала, обработки леса. Руководство ЦК КПСС тогда осознало силу криминальных денег и не на шутку испугалось, пишет Катасонов. Формально реформа имеет хронологические рамки 1965–1969 гг. Однако «тормоза» были включены уже в 1966 г. после этого наступил длительный почти двадцатилетний застой, За внешней статичностью советской жизни скрывался невидимый процесс накопления сил подпольного капитала.
Масштабы операций цеховиков и барыг во времена Брежнева возросли во много раз по сравнению с хрущёвским периодом. В частности, Катасонов приводит пример «Меховой мафии», крупнейшем организованном преступном формировании в нашей стране, раскрытом КГБ СССР в 70-е годы. Основные фигуранты дела цеховики Лев Дунаев, Рудольф Жатон, Пётр Снобков, Иосиф Эпельбейм. Производство «левой» продукции было налажено на базе фабрики в г. Караганда Казахской ССР. 7 января 1974 г. было арестовано в общей сложности 500 человек, причастных к «меховой мафии». На квартирах, дачах, местах работы обвиняемых были проведены обыски. Были найдены миллионы рублей в трёхлитровых банках, сотни килограммов драгоценных камней, драгметаллов. У одного только Снобкова было изъято 24 кг золотых колец, более 5 млн. руб. наличными, около сотни сберкнижек на предъявителя. И несмотря на попытки развалить дело, Снобков, Эпельбейм и Дунаев были приговорены к расстрелу, Жатон получил 15 лет лишения свободы.
Происходило усиление коррупции в партийно-государственном аппарате. Дело уже не ограничивалось предоставлением барыгами дефицитных товаров для аппарата, отмечает Катасонов. В ход пошли деньги. Простым советским людям навязывалось мнение, что коррупция для социалистического строя является нехарактерным явлением. С точки зрения теории это верно. Но при условии уменьшения товарного производства и товарно-денежных отношений, которые автоматически порождают коррупцию. При Сталине этот процесс совершался именно в сторону уменьшения с целью постепенной замены товарообмена продуктообменом, при накапливании соответствующих материальных запасов. Также при Сталине жесточайшим образом преследовались и наказывались коррупционеры.