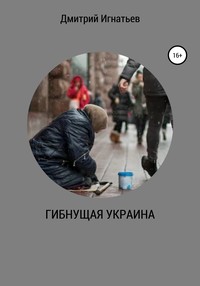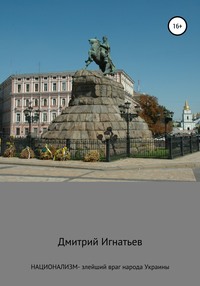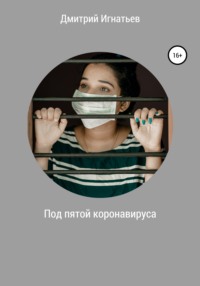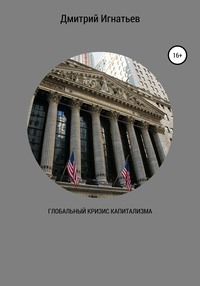полная версия
полная версияКоммунизм против капитализма. Третий раунд
Пленум же высказался за продажу техники, находящейся в машинно-тракторных станциях, т. е. в государственной собственности, колхозам, разумеется, в целях «дальнейшего развития колхозного строя».
А то, что это ведёт к усилению товарно-денежных отношений в стране, и, соответственно, удаляет страну от коммунизма, это хрущёвцев нисколько не волновало.
Сталина уже нет, его работы спрятаны от партии и трудящихся масс, он оклеветан, так называемая «антипартийная группа Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», выступавшая за возврат к сталинским методам и формам работы, за продолжение сталинского плана постепенного перехода к строительству коммунизма, выведена из состава ЦК. Уже можно творить, что угодно, прикрываясь клятвами в верности Ленину и демагогическими заявлениями о продвижении к коммунизму.
На июньском Пленуме ЦК КПСС (17–18 июня 1958 г.) принимается постановление об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС и с 1958 г. государственные заготовки сельхозпродуктов в колхозах производить в порядке закупок. Это ещё более увеличивает товарно-денежные отношения в стране. Но в то же время хвастливо заявляется, что в ближайшие годы мы догоним Соединённые Штаты Америки по производству мяса, молока и масла на душу населения.
Уже и «догнали», и «обогнали».
Хвастливая мелкобуржуазная фраза, прикрывавшая экономическую суть хрущёвских «реформ», направленных не на приближение, а на удаление от коммунизма, на усиление товарно-денежных отношений в стране, что создавало условия для капиталистического перерождения социалистической экономики, для уничтожения социалистического базиса Советского государства. Что и произошло впоследствии.
Серьёзный удар был нанесён по снабжению городов продукцией сельского хозяйства. Хрущёвым, отмечает В. Катасонов, были запрещены приусадебные участки колхозников, введены налоги на фруктовые деревья, каждую голову скота, закрыты колхозные рынки. Крестьяне из-за налогов порезали свой скот, в несколько раз сократили объёмы производства овощей, вырубили фруктовые сады. В городах начались перебои в снабжении населения мясом, хлебом, мукой, крупами, маслом. Из товарного оборота полностью исчезли многие продовольственные товары, например, мёд. Фактически в стране начался продовольственный кризис, в городах возникла большая социальная напряжённость.
В 1961 г. произошло первое повышение цен. А перед этим, в 1960 г. был отправлен в отставку сталинский нарком финансов А. Г. Зверев, который, по свидетельству публициста Ю. Мухина, был противником хрущёвской денежной реформы 1961 г. (см. «Зверев – «Сталинский» нарком финансов»). Хрущёв не мог открыто поднять цены, когда народ явственно помнил, что при Сталине цены не поднимались, а ежегодно снижались. Официально целью реформы было объявлено спасение копейки, дескать, на копейку ничего нельзя купить, поэтому рубль надо деноминировать – уменьшить его номинал в 10 раз. Реально же Хрущёв проводил деноминацию только с целью прикрытия ею повышения цен. Если мясо стоило 11 руб., а после повышения цен должно было стоить 19 руб. (т. е., повышение составило 72,7 %), то это сразу же бросилось бы в глаза. Но если одновременно проводить и деноминацию, то цена мяса 1 руб. 90 коп. вначале сбивает с толку – вроде бы и подешевело. С этого момента возник дисбаланс между государственными магазинами и чёрным рынком, где торговцам стало выгоднее сбывать товар. Именно с этого момента товары из магазинов стали исчезать.
Были выступления трудящихся против такой политики. Наибольший резонанс имело выступление в Новочеркасске, которое закончилось расстрелом протестующих.
Результатом непродуманных и экономически необоснованных реформ в 1963–1964 гг. в нашей стране случился большой неурожай, страна оказалась на грани голода, для его предотвращения были проведены гигантские закупки зерна за границей. На эти цели израсходовано 1244 т золота (между прочим, отмечает Катасонов, беспрецедентный объём продаж драгоценного металла за всю историю СССР).
Вот какой вывод делает В. Катасонов по итогам хрущёвских «реформ»:
«Жёсткая вертикаль управления экономикой стала ослабевать также в результате сокращения набора плановых показателей, которые были обязательны для выполнения министерствами, главками, производственными объединениями и предприятиями. Число показателей народнохозяйственного плана при Сталине неуклонно увеличивалось. В 1940 г. оно составляло 4744, а в 1953 г. достигло 9490, т. е. удвоилось. Затем число показателей непрерывно сокращалось: до 6308 в 1954 г., 3390 в 1957 г. и 1780 в 1958 г. Кстати, против такого ослабления централизованного планирования выступала упомянутая выше антипартийная группа. За сокращением числа показателей не было никакого серьёзного научного и идеологического обоснования. Всё было намного проще. «Верхи» больше не хотели напрягаться и желали ослабить личную ответственность (за каждый показатель конкретно отвечал тот или иной государственный и/или партийный начальник).
Объясняя победу Хрущёва над так называемой антипартийной группой, В. Молотов говорил «Все хотели передышки, полегче жить…Они очень устали» (В. Катасонов ссылается на «Сто сорок бесед с Молотовым. Из Дневника Ф. Чуева. М., 1991, с. 312 – Д. И.). «Верхи» уже хотели больше брать, чем давать. При Сталине такого быть просто не могло (Вот она, основная причина борьбы с «культом личности» – Д. И.).
И ещё несколько высказываний Молотова о Хрущёве и хрущёвской политике в качестве ответов на вопросы Феликса Чуева:
«У нас в 20-е годы был тончайший слой партийного руководства, а в этом тончайшем слое всё время были трещины: то правые, то национализм, то рабочая оппозиция… Как выдержал Ленин, можно поражаться. Ленин умер, они все остались, и Сталину пришлось очень туго. Одно из доказательств этому – Хрущёв. Он попал из правых, а выдавал себя за сталинца, за ленинца: «Батько Сталин! Мы готовы жизнь за тебя отдать, всех уничтожим»! А как только ослаб обруч, в нём заговорило…
– Сейчас говорят: лишь бы войны не было.
– Вот эта хрущёвская недальновидная точка зрения. Она очень опасна. Нам надо думать о подготовке к новым войнам. К этому дело подойдёт. Да, чтобы мы были готовы. Тогда они будут поосторожнее. А если на крайность пойдут они, тогда мы будем крепко стоять. Пример Вьетнама для всего мира: если такой маленький Вьетнам может, благодаря помощи друзей, против американского империализма стоять, чего ж Советскому Союзу бояться? Только своей беспомощности, расхоложенности, распущенности…
Хрущёв. Он сколотил себе группу. Потому что все хотели передышки, полегче пожить. А по-сталински, надо было и дальше крепко держать руль…
Как выдвинулся Хрущёв? Снизу. Как он попал в ЦК? Там у него оказалось много союзников. Много таких людей, которые могут искать более надёжного для себя лидера, а Хрущёв пообещал более спокойную, более лёгкую жизнь наверху, и сразу многие за это ухватились. И внизу пообещал. Это очень нравилось, но это был обман. А этот обман многим дал возможность поспокойнее жить. Очень опасное дело. Сталин в этом отношении был беспокойный человек. Такую жизнь Хрущёв пообещал, но тут в основном был обман, а многие всё-таки использовали это дело, да. И клюнули, да. Я думаю, что его всё же не столько тянули сверху, сколько поднимали снизу. Он так и шёл – секретарём ячейки в Промакадемии, секретарём одного райкома, другого в Москве, Краснопресненского и Бауманского. Это значит, там его поддерживали. Сторонники Сталина линию вели прочно, а он ловко приспособлялся к этой линии. Он человек способный, имейте ввиду, здесь нельзя сказать, что он просто так. Хрущёв мог бы стать бухаринцем, а пошёл в другую сторону, потому что нельзя. Хрущёв по существу был бухаринец, но при Сталине он не был бухаринцем…
Роль Хрущёва очень плохая. Он дал волю тем настроениям, которыми он живёт… Он бы сам не мог этого сделать, если бы не было людей. Никакой особой теории он не создал, в отличие от Троцкого, но он дал возможность вырваться наружу такому зверю, который сейчас, конечно, наносит большой вред обществу. Значит, не просто Хрущёв.
– Но этого зверя называют демократией.
– Называют гуманизмом, – говорит Молотов. – А на деле, мещанство.
Хрущёв, он за Советскую власть, но против революции. Что для него характерно: он против всего революционного… Он бухаринец, безусловно. Не выше бухаринского, я думаю, был уровень. Примостился.
Хрущёв, он же сапожник в вопросах теории, он же противник марксизма-ленинизма, это же враг коммунистической революции, скрытый и хитрый, очень завуалированный… (выделено мною, Д. И.).
Нет, он не дурак, А чего же за дураком шли? Тогда последние дураки. А он отразил настроение подавляющего большинства. Он чувствовал разницу, чувствовал хорошо…
В партии ещё будет борьба. И Хрущёв был не случаен. Страна крестьянская, правый уклон силён. И где гарантия, что эти не возьмут верх? Вполне вероятно, что в ближайшее время к власти придут антисталинцы, скорей всего, бухаринцы»…
Так и получилось, к власти пришли горбачёвцы, завершившие дело Троцкого-Бухарина, продолженное Хрущёвым, разрушившие страну и уничтожившие социализм.
Но, продолжаю, прерванные обширным высказыванием Молотова, давшего теоретическую оценку хрущёвщине, показавшего её не случайный характер, размышления Катасонова.
Партийная и государственная верхушка (не все, конечно) проводила такое реформирование экономики, которое первоначально просто снимало с неё тяжесть ответственности. Это было в основном во времена Хрущёва. Позднее появилось и желание «брать». В неявном виде это проявилось при Брежневе, а в явном – при Горбачёве. Происходила незаметная мутация сталинского социализма в государственный капитализм.
§ 2. Реформа Косыгина-Либермана
На сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин выступил с докладом «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства».
На основании решений Пленума были приняты два Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
30 сентября 1965 г. – «Об улучшении управления промышленностью», которым восстанавливался отраслевой принцип управления народным хозяйством СССР.
4 октября 1965 г. – «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства», давшее старт реформе Косыгина-Либермана, поставившей во главу угла прибыль как важнейший плановый показатель, по которому с началом реформы производилась оценка деятельности предприятия, выполнение ими планов и т. д.
Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин был политическим руководителем реформы. Как отмечают многие авторы, исследователи реформы Косыгина-Либермана, Косыгин слыл в высшем руководстве СССР приверженцем рыночных реформ. Вот что пишет по этому поводу М. Антонов в своей статье «Реформа Либермана-Косыгина – «Революция обывателей»: «Из всех высших руководителей СССР Косыгин был наиболее склонен к идее конвергенции социализма и капитализма. Он, например, не раз пытался доказать своим коллегам по руководству страной, что акционерные общества – это одно из высших достижений человеческой цивилизации, и это делало его наиболее восприимчивым к предложениям «рыночников». И вот в то время, когда надо было переводить экономику на рыночные принципы, Политбюро, по мнению Косыгина, занимается разной чепухой».
Научным разработчиком реформы являлся Евсей Григорьевич Либерман, доктор экономических наук, зав. кафедрой экономики и организации машиностроительного производства Харьковского инженерно-экономического института, затем профессор кафедры статистики и учёта Харьковского государственного университета им. А. М. Горького.
Уже в 1956 г. в журнале «Коммунист» была опубликована статья Либермана «О планировании промышленного производства и материальных стимулах его развития». А 9 сентября 1962 г в «Правде» публикуется известная статья Либермана «План, прибыль и премия», ставшая основой последующей реформы. В 20-х числах сентября 1962 г. состоялось заседание Научного совета по хозяйственному расчёту и материальному стимулированию при Академии наук СССР, положившее начало дискуссии о реформе хозяйственного механизма и вылившейся в доклад Косыгина на Пленуме ЦК 27 сентября 1965 г.
Следует отметить, что на Западе внимательно следили за данной дискуссией. 12 февраля 1965 г. вышел американский журнал Time, обложка которого посвящена Либерману и готовящейся экономической реформе. На обложке с портретом Либермана, изображённом на фоне советского рубля, имеется надпись «Коммунисты заигрывают с прибылью». В журнале Time, как отмечает автор материала «Предвестник разрушения СССР – реформа Косыгина-Либермана 1965 г.», даётся краткое ознакомление с «положительностью» и настоятельностью реформ, намеченных Либерманом в СССР. И через восемь месяцев после публикации в американском журнале данная реформа стартовала. Отсюда понятно, кто был истинным вдохновителем этой «реформы».
Очень интересные факты из биографии Либермана приводит Николай Стариков в своей статье «Дедушка перестройки – Евсей Григорьевич Либерман». Он обращает внимание на то, что Либерман был женат на Регине Горовиц, сестре выдающегося пианиста Владимира Горовица, в 1925 г. выехавшим в Германию на «учёбу» и оставшимся там. Вместе с Горовицем не вернулся на Родину и другой музыкант, советский скрипач Натан Мильштейн. По воспоминаниям Мильштейна, организатором поездки выступил Уборевич, один из подельников маршала Тухачевского. По другим источникам, сам Троцкий даёт им разрешение «на гастроли» по Европе. Во время одного из своих концертов они знакомятся с королевой Бельгии Елизаветой. Гастролируют по Германии, затем оседают во Франции. Мильштейн вспоминает: «нас часто приглашал в посольство советский посол во Франции Х. Раковский. И как-то мы с Горовицем спросили о возможности нашего возвращения в Россию. Он ответил «Не будьте дураками. Играйте здесь!»». Следует напомнить, что Раковский принадлежал к троцкистской оппозиции. После войны Мильштейн и Горовиц осядут в США, получат американское гражданство. Владимир Горовиц впоследствии будет награждён «Президентской медалью свободы», которую ему вручит сам Рональд Рейган.
Из биографии Либермана известно, что в 1924 и 1926 гг. он бывал в научной командировке в Германии. Вот и прослеживается связь научного руководителя, идеолога реформы 1965 г. с троцкистами, с сионистскими кругами Запада.
А то, что США очень внимательно следили за происходящим в СССР и делали всё, чтобы изменить вектор развития советской экономики, говорят высказывания их политиков, журналистов, обозревателей.
Так, в сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 г. в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас…» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и в настоящее время темп роста в СССР в 2–3 раза выше, чем в США».
Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 г. объём русского производства в 3–4 раза превысит американский. И если это произойдёт, то последствия для стран капитала (и в первую очередь для США) окажутся, по меньшей мере, грозными.
Херст, король американской прессы, после посещения СССР предлагал и даже требовал создания постоянного совета планирования в США. (Высказывания взяты из воспоминаний сталинского наркома (министра) финансов А. Г. Зверева, приведенные в статье «Министр финансов СССР Зверев о деньгах, золоте и долларе. Не Сталины они и не де Голли…».).
Вот почему США, международный капитал в целом, были крайне заинтересованы в том, чтобы остановить стремительное развитие СССР, под видом реформ добиться, чтобы руководство партии и страны отказалось от продолжения сталинского курса.
Вот вам и появление Хрущёва с его антисталинизмом, с его клеветой на вождя, с его отказом от сталинского направления развития СССР.
Вот вам и внедрение экономической реформы Косыгина-Либермана в 1965 г.
Прекрасный анализ сущности экономической реформы 1965 г. дан в анализируемой нами книге В. Катасонова «Экономика Сталина», в статьях Т. Хабаровой «Социалистическая экономика как система (Сталинская модель)», Н. Архангельской «Производственные отношения СССР в 1960–1980 гг.», в других материалах.
Товарищ Архангельская обращает внимание на то, что на рубеже 50–60-х гг. начинает возрастать внимание к получению прибыли предприятиями, растёт её роль в формировании доходов государства. И, как результат, отмечает Архангельская, «если в период 1930–1950-х гг. экономика страны представляла собой единый комплекс, работавший на общий результат, то в 1960–1980-х гг. этот комплекс перестал существовать, уступив место массе обособленных предприятий и их коллективов».
Реформа 1965 г. привела к распаду единого хозяйственного комплекса на части из-за стремления обеспечивать доходность не только народного хозяйства в целом, но получать прибыль на каждом предприятии в отдельности. Соответственно, и огромная общность работников этого комплекса разделилась на отдельные коллективы.
Прежде всего, общество и коллектив были противопоставлены друг другу введением платы за основные фонды и оборотные средства. Т. е., если раньше исходили из того, что коллектив является частью народа, владеющего средствами производства и может их использовать без всякой платы, то теперь трудовой коллектив, в связи с платой за фонды (т. е. средства производства) уже рассматривается не как часть собственника средств производства, а как их своеобразный арендатор. Происходит как бы отчуждение собственности от непосредственного производителя (трудового коллектива) и противопоставление его государству. Общество и коллектив противопоставлены друг другу как собственник средств производства и субъект, ими пользующийся.
Погоня за прибылью характерна для капиталистического способа производства. Превращение прибыли в главный показатель производства, в цель производства, положило начало возвратному движению от социализма к капитализму.
Процесс обособленности предприятий и общества, по мнению Архангельской, проявлялся в том, что:
– Стремление к получению максимальной прибыли было обусловлено тем, что на основе прибыли предприятия формировались фонды: материального поощрения, из которого выплачивались премии и иные доплаты; социально-культурных мероприятий и жилищного строительства; развития производства. Чем больше прибыль, тем больше фонды, тем больше премии и материальное благополучие тружеников данного коллектива. Вот трудовой коллектив предприятия и заинтересован в том, чтобы получить как можно больше прибыли, а нужна ли его продукция обществу, выполнен ли план по номенклатуре и ассортименту продукции, коллектив совершенно не интересует. Дело в том, что разные виды изделий давали разные отчисления в фонд зарплаты, разную прибыль. И поэтому предприятия стремились выпускать более выгодную, т. е. более прибыльную продукцию, в ущерб менее прибыльно выгодной. Выгодной для предприятия была та продукция, те виды работ, которые при меньших затратах труда приносили большую прибыль. Особенно погоня за выгодной продукцией усилилась с 1979 г., когда фонд зарплаты начал исчисляться не в зависимости от трудоёмкости работ, а в виде процента к сумме (стоимости) произведенной продукции, выполненных работ. Чем больше стоимость, тем больше фонд зарплаты, тем выше и зарплата, и прибыль.
Отсюда возник дефицит самых необходимых дешёвых товаров.
«Стремление получить прибыль на данном предприятии ведёт к его экономическому обособлению, превращает коллектив в изолированную единицу, стремящуюся прежде всего обеспечить собственную выгоду», т. е. противопоставляет коллектив обществу.
– Погоня за прибылью начала подрывать плановое ведение хозяйства. Коллектив предприятия был заинтересован, прежде всего, в том, чтобы перевыполнить план по прибыли и в этих целях стремился обеспечить себе выгодное плановое задание, т. е. занизить план. Разработка ненапряжённого плана соответствовала интересам коллектива, но не отвечала интересам общества, побуждала коллектив действовать в духе группового эгоизма.
Возникло также такое понятие как «корректировка» плана в сторону его снижения, которая, как правило, происходила в конце года, когда руководители (представители) предприятий в главках или министерствах, «корректировали» планы, за соответствующую мзду («благодарность»), что привело к появлению коррупции, как неизменного спутника товарно-денежных отношений.
Система планирования подталкивала предприятия к тому, чтобы не вскрывать, а скрывать резервы повышения эффективности и снижения себестоимости, т. к. это позволяло выполнять планы без напряжения. Планирование крайне слабо учитывало возможности научно-технического прогресса. Точнее говоря, сама система планирования, в основу которой была положена погоня за прибылью, а не за снижением себестоимости продукции, не способствовала заботе предприятий, трудовых коллективов к выявлению резервов производства, к внедрению новой более производительной техники, к использованию достижений научно-технического прогресса в производственном процессе. Повышение прибыльности предприятия можно было добиться, и предприятия добивались, совершенно иным путём.
Социалистическое распределение работников по видам труда в связи с потребностями общества дополняется капиталистическим распределением, исходящим из выгодности для данного коллектива трудовой деятельности по производству более прибыльной продукции, независимо от потребностей общества.
«Меняется и сам характера труда коллектива, – делает важный вывод Архангельская. – Пока он подчинял свою деятельность общим интересам и общему плану работ, его труд носил непосредственно общественный характер. Как только коллектив перестаёт считаться с общественными интересами и производит то, что выгодно ему самому, его труд теряет непосредственно общественный характер и становится частным трудом».
Архангельская приводит пример долгостроя, когда предприятия, строившиеся 13–14 лет, уже устаревали к моменту их ввода в строй. А ведь строители получали зарплату, премии, а их труд оказывался уже ненужным обществу.
Более того, размер зарплаты, материальное благополучие работника зависело не столько от количества и качества его труда, сколько от принадлежности к определённой отрасли производства. Так, любой работник предприятия, производящего оборонную продукцию, за одинаковый труд получает значительно больше, чем рабочий, производящий предметы потребления, т. е. нарушался важнейший принцип социализма – принцип распределения по труду.
«Собственность, превращавшаяся в групповую, вела к расколу общества, к превращению его в конгломерат коллективов, не связанных общими интересами». Это закладывало экономические предпосылки к расколу страны в будущем.
Этим ситуация 60–80-х годов радикально отличалась от ситуации 30–50-х. В сталинские годы жители страны были заинтересованы в успехе любого предприятия, поскольку это непосредственно влияло на их материальное положение через снижение цен. Тогда любой рабочий, любой труженик чувствовал себя хозяином своей страны. Он понимал, чем лучше, производительнее и качественнее он будет трудиться, тем будет лучше и жизнь всего общества, и его собственная жизнь.
А уже в хрущёвско-брежневские годы начал формироваться иной тип работника. Он старался не выкладываться на производстве, чтобы всегда быть в состоянии справиться с очередным повышением норм (Архангельская отмечает, что установилась практика ежегодного пересмотра норм труда без учёта изменений в технологии производства, совершенствовании процесса труда, его организации). Он был заинтересован в том, чтобы план был легко выполним, чтобы его предприятие выпускало выгодную продукцию, поскольку это давало большую зарплату и премии. Он не чувствовал непосредственно на себе эффективность работы других коллективов и ощущал себя не представителем всего рабочего класса, трудящихся масс страны, а именно членом коллектива данного предприятия.
Рабочий класс из авангарда трудового народа, самого передового класса современности стал (вслед за партией, в первую очередь её руководящей верхушкой) постепенно перерождаться в обывателей, живущих только своими личными интересами.
– Стремление коллективов к частной выгоде толкало их к завышению цен на свою продукцию.
Архангельская приводит цифры: с 1960 по 1980 г. прибыль возросла в 4,6 раза, а производительность труда в промышленности – только в 2,6 раза, а в сельском хозяйстве и строительстве, ещё меньше. Это говорит о том, что в основе роста прибыли лежал рост цен, которые предприятия завышали на свою продукцию.