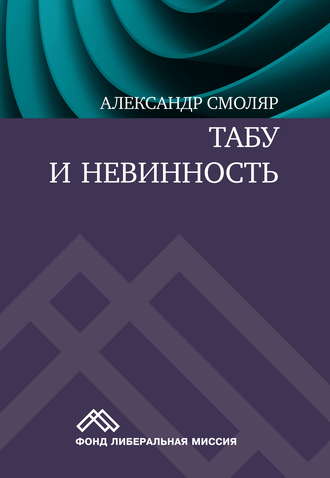
Полная версия
Табу и невинность
Центральную роль в этой системе предстояло играть принципу самоуправляемости. Во время заседания Общенациональной комиссии «Солидарности» в июле 1981 года – наиболее интересном из всех подобных, поскольку на нем впервые встал вопрос о политической стратегии, – Куронь произнес речь, тезисы которой одобрила вся комиссия. Он рассуждал просто и напрямую: мы не можем взять власть на выборах и не можем принять модель тоталитарной партии; единственный путь, который открыт перед нами с целью вернуть народу духовную самостоятельность, – это путь автономии отдельных секторов общественной жизни, путь взятия власти там, где это возможно. Таким образом, программа самоуправляемости стала революционной программой борьбы за хозяйственно-экономическую власть. В середине 1981 года эта программа приобрела огромную популярность.
Но два месяца спустя, когда напряжение росло, тот же Куронь со всей решимостью высказался за компромисс и навязал его профсоюзу – таким способом он подре́зал крылья всему движению муниципального самоуправления. Ведь революционное движение, то есть движение, у которого не проговариваемой вслух целью является хотя бы частичное лишение правящих классов собственности, не может довольствоваться компромиссом, в том числе даже выгодным для себя. Рабочих не интересовала ни самоуправляемость предприятий, реализуемая самими трудящимися, ни более рациональная организация экономики, если главные решения оставались бы в руках власти. Самоуправляемость вызывала у них интерес только как инструмент политической борьбы.
Это лишь один из многих примеров противоречий, с которыми боролся профсоюз – революционный по своему духу, но с реформистской программой – организация людей, жаждущих радикальных перемен, но вынужденных вести переговоры с ненавистной властью. И это также пример такого противоречия, которое не могло не терзать умы, чувствительные к революционному потенциалу движения и к смертельной опасности, витавшей над всей страной.
Кор при военном положении
Объявление военного положения означало арест всех членов КОРа, кроме тех, кто случайно находился в этот момент за границей, и кроме самых пожилых. Куронь и Литыньский, Мацеревич и Михник, Вуец и Белиньский, Липский, Анка Ковальская и Халина Миколайская отправились в лагеря интернирования. Немногочисленные деятели КОРа, в частности Борусевич и Ромашевский, ускользнули от облавы. И одни и другие сыграли, однако, огромную роль в той войне, которую общество объявило диктатуре в месяцы, последовавшие за декабрем 1981-го.
Нелегко говорить об участии КОРа – то ли его изначальных членов, то ли ставших его сотрудниками позднее – в создании подпольных профсоюзных структур. Отсутствие точных и подробных данных, а также соображения, связанные с безопасностью людей, велят проявлять сдержанность. Посему мы ограничимся лишь теми, кто действует явным образом или уже находится в тюрьме. Так вот, среди ведущих фигур тогдашнего движения сопротивления мы видим двух членов КОРа – Богдана Борусевича и Збигнева Ромашевского. Первый скрывается в Гданьске, где он принадлежит к региональному руководству подпольной «Солидарности». Второй, которого тем временем смогли арестовать, сыграл большую роль в Мазовии, где он создал так называемую горизонтальную межзаводскую сеть «Солидарности» и радиостанцию «Солидарность». Не вдаваясь в подробности, скажем, что во многих городах подпольную прессу организовали люди из предавгустовской оппозиции. КОРовцы, действуя из мест интернирования или из укрытий, участвовали в дискуссиях о причинах поражения и о дальнейшей стратегии. Подпольная и зарубежная пресса печатала аналитические материалы Куроня, Михника, Литыньского и Мацеревича. Анка Ковальская, Ян Юзеф Липский и Халина Миколайская брали слово публично. Еще раз поражает разнородность их мнений, уровней восприимчивости и эмоциональной впечатлительности. В их высказываниях нет ни следа партийной линии или какой-то общей стратегии. Этих людей связывает одна-единственная вещь – наследие КОРовской традиции и «общий знаменатель» всех его деятелей: императив участия в публичной жизни. Они говорят от первого лица, подписываются собственными фамилиями и остаются свободными людьми даже за решеткой.
Процесс
Подготовительные операции к процессу над КОРом продолжаются уже давно, с самого его рождения семь лет назад, в июне 1976 года. С того момента статьи обвинительного акта часто менялись, точно так же, как менялась – в зависимости от обстоятельств – роль, которую должен был сыграть этот процесс.
Семерых главных членов КОРа впервые арестовали в мае 1977 года и обвинили в действиях, которые наносят вред ПНР и выполняются по соглашению с враждебными организациями путем постоянной передачи им специально составляемых фальшивых информационных и аналитических материалов об общественной и политической ситуации в стране. Таким способом власть мстила за мужественные и победоносные действия КОРа в пользу преследуемых рабочих. При этом КОРовцев арестовали на следующий день после загадочной смерти краковского сотрудника КОРа, студента Станислава Пыяса, которого, по всеобщему убеждению, убили люди из службы безопасности[23].
Через два месяца перед лицом резких протестов в Польше и за границей правительство, будучи вынужденным любой ценой удержать западную помощь, необходимую для спасения разваливающейся экономики, выпустило из тюрем КОРовцев и последних рабочих. В том же самом 1977 году властные круги возобновили следствие против членов КОРа, на сей раз преследуемых за участие в организации, целью которой является преступление, заключающееся в распространении не согласованных с цензурой публикаций. Пренебрегая положениями польского Уголовно-процессуального кодекса, который требует завершить следствие в трехмесячный срок или же уточнить иную конкретную дату его завершения, процедура оставалась открытой по времени.
На протяжении долгих лет КОРовцы оставались объектом непрестанной слежки и задержаний, не говоря уже об обысках и конфискациях подпольных публикаций, обычных книг, а также печатной техники, даже типографской и копировальной бумаги. Однако в тюрьмы их больше не сажали. Власть отступила от этого правила только дважды. В декабре 1979 года, накануне годовщины бойни рабочих Побережья, они арестовали, но вскоре освободили пятнадцать человек. В августе 1980 года, во время большой волны забастовок, заключению подвергли двадцать восемь человек. Как я уже упомянул, по отчетливо выраженному требованию забастовщиков их всех освободили сразу же после подписания гданьских договоренностей.
И все эти годы процесс над КОРом потихоньку продолжался. Власть была, однако, слишком слаба и слишком хорошо осознавала, что сидит на вулкане, чтобы придать этому процессу форму настоящего судебного разбирательства, которое увенчалась бы приговорами. Стефан Ольшовский, член политбюро, оценил эту политику во времена «Солидарности» следующим образом: либеральное отношение к КОРу является следствием оппортунизма Герека. Тот хотел государства без политзаключенных, без проблем в течение периодов от амнистии до амнистии. И вот вам, мол, последствия такого поведения… Та группировка [в составе партийного руководства, куда входил Ольшовский] умела использовать этот чрезмерный либерализм генсека.
Едва в ноябре 1980 года с горем пополам закончился конфликт вокруг регистрации «Солидарности», как тут же разразился следующий. Деятели «Солидарности» раздобыли письмо генерального прокурора, посвященное «действовавшим до сих пор принципам преследования участников нелегальной антисоциалистической деятельности». Указанный документ вкратце излагает историю борьбы с оппозицией, обвинявшейся прежде всего в том, что она объединяется в организации, цель которых состоит в подготовке и распространении подпольных печатных материалов. Перед нами история полицейского бессилия. Это, впрочем, не отменяет того факта, что данный документ заканчивается инструкцией, которую есть смысл вкратце изложить. Из определенных текстов и публичных высказываний представителей антисоциалистических группировок будто бы вытекает – по утверждению генерального прокурора, – что они стремятся к захвату власти, в том числе и силой. Названные лица уже говорят об этом открыто. Приготовления к реализации указанных целей позволяют квалифицировать подобные деяния в категориях Уголовного кодекса как подготовительные действия к свержению государственного строя силовым путем. Поэтому необходим отбор и накопление доказательств, что позволит в конечном итоге сформулировать обвинительный акт.
В переводе на общедоступный язык этот фрагмент означает следующее: в тот момент, когда власть пыталась убедить общество в своем горячем желании мирного сосуществования, в момент, когда еще преобладал оптимизм, она уже готовила месть. Эта фраза предвещает обвинения, которые двумя годами позже выдвинут против КОРа. Стало быть, решение уже давно было принято.
В 1981 году Польское агентство печати (ПАП) проинформировало, что начато следствие против КОРа. В коммюнике ПАП этот Комитет описывался как организация, находящаяся на содержании у зарубежных диверсионных центров, направленная против государства, его общественного строя, его внешних союзов и внутреннего мира. Через месяц мы узнали, что Куроню и Михнику предъявлены обвинения в участии в преступной организации, а также в действиях, порочащих государственный строй и его учреждения. Декорации были готовы, актеры выбраны. Оставалось лишь спешно дополнить или изменить некоторые части сценария. Если процесс должен был выполнить поставленную перед ним дидактическую роль (а другой роли он и не выполнял), то такие оперативные коррективы были необходимы. Тем временем дидактические цели менялись в зависимости от текущих обстоятельств. Пока КОР реально действовал – прежде чем он самораспустился после августа 1980-го, – репрессии и непрекращающиеся приготовления к процессу имели целью минимизировать ущерб от его деятельности и подавить те зародыши свободы, символом которых выступал КОР. После рождения «Солидарности», когда именно это общественное движение охватило миллионы людей, а КОР стал всего только символом, атаки против него и подготовка к процессу в действительности нацеливались в «Солидарность», в ее независимость, в ангажированность интеллектуалов. Речь шла о том, чтобы навязать профсоюзу всяческие табу как условие любых соглашений и договоренностей с властями. Это была классическая «тактика салями»[24]: если бы профессиональный союз согласился на устранение членов КОРа, власти, несомненно, потребовали бы вышвырнуть остальных «радикальных» и «безответственных» советников, потом – «безответственных» лидеров профсоюза и так далее. Процесс против КОРа должен был служить постепенному порабощению профсоюза. «Солидарность» отдавала себе отчет в этом и не позволила заманить себя в ловушку.
Ликвидация профсоюза 13 декабря 1981 года, естественно, изменила стратегию власти. «Тактика салями» перестала быть полезной. Нужда в очередных ампутациях, производимых на теле профсоюза, исчезла, коль скоро его уничтожили одним махом – целиком и полностью. Однако КОР в качестве символа оставался полезным. Теперь процесс над ним должен был a posteriori (апостериори) обосновать объявление военного положения. Требовалось любой ценой показать, что заговор против государственного строя и власти действительно существовал. Требовалось доказать, что «Солидарностью», родившейся, как это неустанно повторяют власти, «из справедливого гнева рабочего класса», с целью «сказать „нет“ искажениям и извращениям социализма, но не социализму», манипулировали разные «антисоциалистические группки, сосредоточенные, главным образом, вокруг КОРа». Рабочий класс, хороший по самой своей природе, не может быть виноват – виновников надобно искать в других местах, среди зарубежных агентов, интеллектуалов, евреев и пресловутых велосипедистов.
Итак, КОР служит козлом отпущения. Власть – а тонкость не числится среди ее доминирующих качеств – попадает в гротескную ситуацию, обвиняя в своем коммюнике от 2 сентября 1982 года интернированных уже на протяжении девяти месяцев КОРовцев в организации демонстраций, которые 31 августа 1982 года прокатилось через всю Польшу по призыву подпольного руководства профсоюза.
А процесс над КОРом – так же как и процесс семи руководителей «Солидарности», который должен состояться после него, – уже не касается людей из плоти и крови, хотя обвиняемым предстоит дорого заплатить за свое мужество, ангажированность и борьбу. Однако на сей раз судить и осудить собираются символ – символ надежды, символ общей для всех поляков мечты о свободной, справедливой и демократической родине. На скамью подсудимых должна сесть «Солидарность» как воплощение этих мечтаний, а вместе с ней – весь польский народ, который не перестает демонстрировать свою привязанность к идеалам и надеждам, вызванным к жизни в августе 1980-го.
Между примирением и восстанием
Август 1982 г
Язык военного столкновения
Лозунги «Ворона и не охнет, как подохнет», «Против орла ворона мала»[25], якоря «Борющейся Польши» на стенах и на страницах подпольной прессы[26], возвращение слов, издавна, казалось бы, связанных с прошлым: оккупация, война, облавы, коллаборационизм. Иными словами, язык, до крайности конфликтный, чрезвычайно нагруженный в эмоциональном плане, язык острой борьбы, сражения.
С другой стороны, непрестанно и в разных версиях повторяются слова о необходимости компромисса, национального согласия, примирения. Язык мира, язык арбитража и посредничества.
Они сосуществуют, живут вместе. Как? Почему? Каковы последствия этого?
Чем является язык борьбы и сражения в устах поляка, прошедшего через испытания и опыт военного положения? Он представляет собой – во-первых – спонтанную реакцию на то, с чем столкнулась Польша. В коллективной памяти воскресают картины оккупационного кошмара, драм, которые разыгрывались после восстаний. Люди инстинктивно, самопроизвольно обращаются к разным моментам нашей и чужой истории в поисках прообразов той ситуации, которую они переживают в данный момент. Язык конфликта, язык морального возмущения и той обиды, которую довелось испытать, служит не только для передачи чувств и мыслей; он является также инструментом мобилизации и сплочения нас против них. Его функция – усилить существующие разделения, сделать возможным выживание сообщества, оказавшегося под угрозой. Если смотреть через призму этого языка, то преодоление конфликта возможно лишь в результате конфронтации и окончательной победы одной из сторон.
Посреднический, примиренческий язык представляет собой язык разума, который ищет решения для конфликтных ситуаций – вопреки чувствам, наслоившимся предубеждениям, расхождениям интересов. Посреднический язык – это язык тех, кто, не веря в победу, хочет избежать поражения, которое неизбежно превратилось бы в катастрофу для всех. Этот язык ищет трудного равновесия между одобрением принципов – и признанием реальности вкупе со всеми ограничениями, которые она навязывает.
Сосуществование этих языков носит конфликтный характер; один из них лишает достоверности второй. Трудно относиться всерьез к языку национального согласия, когда одновременно в партнере такого согласия видят оккупанта, продажного типа, в самом лучшем случае – жулика и обманщика. В равной мере трудно относиться к конфликтному языку всерьез, когда верят в декларации о необходимости, даже обязательности примирения. Ведь компромисс предполагает хотя бы какую-то общность интересов, которая не может существовать в манихейском мире.
Точно так же и в лагере власти конфликтный язык сосуществует с примиренческим. Конфликтный язык, будучи не в состоянии обращаться против всего общества, видит врагов в «экстремистах», «антисоциалистических элементах», «контрреволюционном подполье» – словом, в «политических авантюристах». Роль этого языка заключается в оправдании декабрьского заговора[27], в том, чтобы сломить волю общества к сопротивлению. Вместе с тем он позволяет аппарату власти сплотиться, придает ему дополнительное мужество, отвагу и веру в будущее.
У власти примиренческий язык частично выражает осознание того, что без отыскания какого-нибудь modus vivendi с народом единственной альтернативой для нынешней холодной гражданской войны может быть лишь война горячая. Речь идет одновременно или же по преимуществу о возбуждении в обществе надежды на то, что не все послеавгустовские завоевания будут у него конфискованы, что военное положение является своего рода временной мерой, и выход из него возможен через соглашение между обществом, примирившимся со своей судьбой, и властью.
Сосуществование двух языков в лагере власти частично является результатом глубоких разделений внутри нее, однако в первую очередь оно служит инструментом борьбы с обществом – его попеременно то лупцуют дубинкой угроз, то подкармливают морковкой надежды.
Язык Церкви, несомненно, носит последовательный характер. Церковь немедленно выступила в защиту тех, кого обижают, против беззакония. Одновременно в высказываниях ее самых видных, самых выдающихся представителей доминирует забота о том, чтобы общество не оказалось окончательно разделенным, – по словам примаса, на «власть, которая приказывает и заставляет, и на подданных, которые молчат и ненавидят». Церковь решительно и с первой минуты высказывается за общественное примирение и последовательно избегает конфликтного языка. Этим, думается, можно объяснить тот факт, что порою она направляет более резкие слова в адрес людей, устраивающих манифестации против бесправия, чем по отношению к тем, кто их лишил этих прав.
Заботу примаса (которая может казаться чрезмерной) о том, чтобы не порочить и не осмеивать власть, можно объяснить опасениями по поводу возможного создания – уже в плоскости языка и мыслей – пропасти столь глубокой, что засыпать ее станет невозможно. Такое движение против течения всеобщих настроений и оценок требует от Церкви большого мужества и глубокого чувства ответственности.
Выше мы обращали внимание на проблему взаимоувязанности тех языков, которыми пользуются вовлеченные в конфликт стороны. Как минимум столь же существен вопрос об их реализме. Не обладает чертами реализма язык, формулирующий проекты и создающий ожидания, которые не могут сбыться. Не является также реалистическим язык, чрезмерно отдаляющийся от ожиданий, мыслей и чувств людей, которым он адресован, ибо в таком случае он не в состоянии влиять на их поведение.
Не грозят ли разговоры о войне и об оккупации, обращение к традициям повстанцев и АК грядущим перерождением сотен, тысяч мужественных и действующих нелегально людей в секту непреклонных, которые непримиримы в своих отношениях с властью и действительностью? Создает ли подобный язык перспективы на будущее, принимая во внимание то, что свержение коммунистической власти трудно рассматривать как цель непосредственных общественных действий?
В дальнейших разделах этой статьи мы не поднимаем вышеуказанных вопросов. Просто нам кажется, что пока еще слишком рано для беспокойства такого рода. Однако же здесь стоит задаться следующим вопросом: насколько реалистичен примиренческий язык? Другими словами, каковы шансы на соглашение общества с правящим классом?
Национальное согласие: актуальность или анахронизм?
Чтение статей в подпольной прессе, заявлений профсоюзных лидеров, а также многочисленных документов, которые разрабатываются в независимых кругах, производит иногда сюрреалистическое впечатление. В то время как 13 декабря выглядит цезурой, отделяющей одну от другой две предельно различающиеся эпохи, непрерывно доводится читать и слышать о согласии, примирении, компромиссе – так же, как перед декабрем, и даже чаще, нежели перед декабрем. Складывается впечатление, что факторы, связывающие шестнадцать месяцев Польши «Солидарности» и Польши военного положения, рассматриваются как более важные, чем те, которые их разделяют. Имеем ли мы здесь в действительности дело с ощущением фундаментальной непрерывности ситуаций и проблем, которая обосновывает политический выбор в пользу поиска какого-то соглашения с коммунистической властью? Или же это скорее некий анахронизм, продолжение того политического мышления и той практики, которые не были лишены определенных шансов в прошлом, но абсолютно не имеют их в радикально иной ситуации военного положения?
Прежде чем взяться за оценку того, насколько актуальна программа национального согласия, вернемся к временам легально действовавшей «Солидарности», чтобы внимательнее присмотреться к аргументам, выдвигавшимся тогда в поддержку такой программы. Нас здесь интересуют как аргументы, формулировавшиеся открыто, так и те, что удается прочитать между строк тогдашних аналитических материалов. Резюмируем их в следующих трех пунктах.
1. Стратегические, политические и идеологические интересы СССР ограничивают возможные перемены в Польше. Каждый по-своему давал определение той сфере, за пределами которой начиналась опасность, но опять-таки каждый осознавал ее существование.
2. Сила польского общества, его сознание, традиции, культура заставляют власти, как варшавские, так и московские, отказываться от проектов низведения Польши до того состояния общественного раздробления, которое присуще другим странам соцлагеря. Всякая власть – если она хочет избежать катастрофы – вынуждена считаться с устремлениями и запросами поляков.
Приведенные выше утверждения очерчивают поле маневра и служат источником своеобразной директивы для деятельности для власти и общества: и те и другие должны само-ограничиваться при реализации собственных целей, Польша не может быть ни свободной, ни коммунистической.
3. В Польше произошло стойкое расхождение власти и авторитета. Власть – как возможность вынуждать определенные коллективные действия – и авторитет – как способность склонять к желательным формам поведения благодаря готовности общества прислушиваться и повиноваться – стали атрибутами разных институтов. Властью располагает партия, авторитетом – Церковь и «Солидарность». Развод власти и авторитета эквивалентен разводу государства и общества.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Марек Эдельман (1922–2009) – до войны член Бунда; в годы войны – замкоменданта Еврейской боевой организации варшавского гетто во время восстания 1943 г. в нем – последний (после гибели М. Анелевича) командир повстанцев; в дальнейшем состоял в Армии Крайовой, участвовал в Варшавском восстании 1944 г. После войны стал видным врачом-кардиологом. С 1976 г. член Комитета защиты рабочих (КОР), в период военного положения подвергался в 1981–1982 гг. интернированию. Прощанию с ним посвящено последнее эссе этой книги. – Здесь и далее, если не оговорено иное, примечания переводчика.
2
Комитет защиты рабочих (польская аббревиатура KOR, или КОР), созданный в 1976 г. рядом известных польских диссидентов-интеллектуалов в качестве ответа на репрессии властей против участников рабочих протестов, был, как и ряд правозащитных организаций в СССР, следствием принятия Заключительного акта хельсинкской Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. КОР быстро перерос рамки своей первоначальной задачи (финансовой и юридической помощи рабочим, которые подвергались преследованиям) и стал первой институциональной формой оппозиции, сыграв огромную роль в развитии рабочего движения и возникновении независимого самоуправляющегося профсоюза «Солидарность», зарегистрированного в ноябре 1980 г. и вскоре объединившего почти 10 млн членов.
3
В квдратных скобках пояснения переводчика. – Ред.
4
Ежи Гедройц (1906–2000) – выдающийся польский публицист и политический деятель, после войны основатель и бессменный главный редактор действовавшего в Мезон-Лаффите близ Парижа ежемесячного общественно-политического и литературного журнала «Kultura» («Культура»), который стал центром польской политической и общественной мысли не только в эмиграции, но и в Польше, где распространялся нелегально. Помимо «Культуры» Гедройц основал также издательство «Instytut Literacki» («Инстытут литерацки», «Литературный институт»), выпускавшее целые серии книг, которые не могли выйти в «народной» Польше, и печатавшийся с 1962 г. ежеквартальник «Zeszyty Historyczne» («Зешыты хисторычне», «Исторические тетради»), который публиковал материалы по новейшей истории Польши и соседних стран (Литвы, Украины, Беларуси, России, Латвии), а также аналитические статьи, документы и воспоминания.

