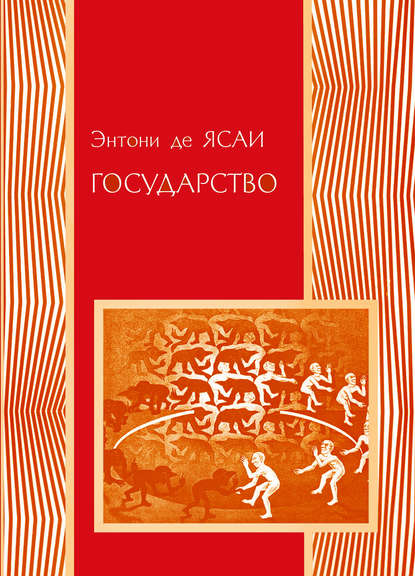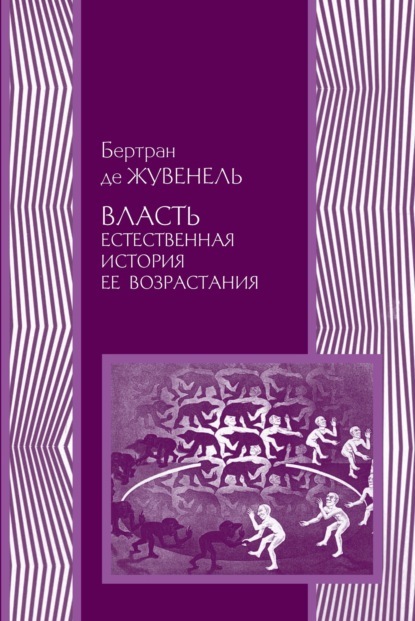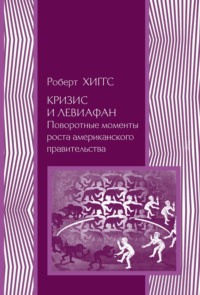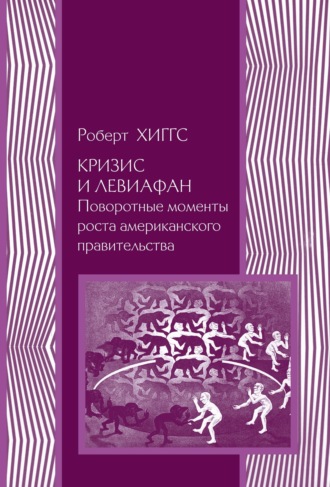
Полная версия
Кризис и Левиафан. Поворотные моменты роста американского правительства
Если следовать сложившейся практике и относить занятых в программах трудоустройства к безработным, то получится, что доля гражданских госслужащих за 1930-е годы практически не менялась: слегка снизилась в 1931–1933 гг. и затем медленно росла до 7,2 % в 1939 г. В 1939–1944 гг. эта доля резко выросла, достигнув невиданных 11,1 %. Получается, что Вторая мировая война стимулировала значительный рост прямого участия государства в гражданском рынке труда.
Если, с другой стороны, считать занятых по программам трудоустройства государственными служащими – а это куда уместнее и разумнее, чем считать их безработными, – то динамика приобретает совершенно иной вид (цифры в скобках в табл. 2.1, столбец 3, и верхняя кривая на рис. 2.3). В этом случае мы видим резкое увеличение доли нанимаемых государством между 1930 и 1936 гг. и особенно значительный рост в 1933 и 1934 гг. Пик был достигнут в 1936 г., когда в государственном секторе работало 14 % гражданской рабочей силы, в два с лишним раза больше, чем в 1930 г. После 1938 г. численность занятых по программам трудоустройства стала сокращаться, и соответственно понизилась доля государственного сектора на рынке труда. К 1943 г., когда программы занятости были практически свернуты, на государство работало всего 11 % гражданской рабочей силы, т. е. доля государства снизилась на три процентных пункта по сравнению с пиковым 1936 г. Как показывает этот более корректный индекс, активность государства на рынке труда выросла вследствие Великой депрессии. Доля государства на рынке занятости превзошла уровень 1936 г. только в 1966 г., после двух десятилетий устойчивого послевоенного роста.
Сразу после окончания Второй мировой войны доля государства на рынке занятости упала почти до 9 %, и только потом начался длительный подъем. К концу 1960-х годов рост сильно замедлился. Пиковое значение 15,7 % было достигнуто в 1975 г., и к середине 1980-х годов доля работающих в государственном секторе понизилась почти до 14 %, т. е. до высшего уровня периода Великой депрессии. В послевоенный период особенно быстрыми темпами росло число работающих на правительства штатов и муниципалитеты. За 1947–1981 гг. численность работающих на федеральное правительство увеличилась менее чем на 1 млн человек, тогда как на уровне штатов и местных органов власти численность служащих выросла почти на 10 млн человек. Одним словом, с начала столетия относительный вес государства на гражданском рынке труда вырос почти в четыре раза.
Недифференцированные данные о занятости обманчивы, особенно данные относительно медленного роста численности федеральных служащих после Второй мировой войны. Джеймс Беннет и Мануэль Джонсон показали, что за период с конца 1950-х и до конца 1970-х годов состав федеральных служащих изменился: «доля „синих воротничков“ снизилась, а „белых“ – выросла, а среди „белых воротничков“ место простых исполнителей заняли работники, участвующие в процессе разработки политики». Они отмечают, что «значительная часть федеральной занятости „невидима“, потому что миллионы людей, консультантов и подрядчиков, не числятся в зарплатных ведомостях, а привлекаются с помощью грантов, временных договоров и всевозможных программ»[50]. Понятно, что плановики и администраторы вытеснили на федеральном уровне простых клерков и дворников. Эта тенденция заслуживает нашего внимания, потому что в показателе доли работающих в государственном секторе существенно то, чем заняты государственные служащие, что они делают с частными гражданами или для них. Мы могли бы продолжить анализ количественных показателей роста правительства (например, посмотреть на налоговые поступления, на займы, ссуды, гарантии кредитов)[51], но пользы от этого немного. Каждый показатель, разумеется, прольет дополнительный свет на обсуждаемый вопрос, но в фундаментальном смысле они не скажут нам того, что мы действительно хотим узнать. Проблема в том, что существующие количественные показатели размера правительства не очень близко соотносятся – а иногда и вовсе никак не соотносятся – с глубинной сущностью государства, т. е. с правом на принуждение.
Сущность большого правительства: альтернативный подход
Государство может значительно увеличить долю своих расходов в ВНП или долю занятости и при этом все же не стать Большим Правительством. Левиафана, который пишется с прописной буквы, отличает широкий размах влияния на принятие экономических решений, т. е. масштаб, при котором не частные граждане, а государственные чиновники определяют, как ресурсы будут размещены, использованы и потреблены. Как писал Эрик Нордлингер, «государство благосостояния со смешанной экономикой сильно благодаря широкому размаху своей социальной и экономической деятельности, своей воистину непомерной способности регулировать, распределять и (в меньшей степени) перераспределять»[52].
Чтобы оценить масштаб деятельности современного правительства, рассмотрим таблицу в приложении к этой главе. В ней приведен список аббревиатур, обозначающих некоторые агентства, инструменты и функции федерального правительства. (При добавлении соответствующего материала по правительствам штатов и местным органам власти перечень стал бы непомерно длинным.) Каждому, кто придерживается любой из монокаузальных теорий роста правительства, я советую ознакомиться с этим перечнем и спросить себя: объясняет ли моя теория время возникновения и характер деятельности каждого из этих ведомств и агентств? Убежден, что ни одна моно-каузальная теория не пройдет этого испытания.
Размах правительственной деятельности имеет первостепенное значение отчасти потому, что зачастую он подменяет более интенсивную деятельность в фиксированных рамках. С экономической точки зрения не важно, влияет ли государство на распределение ресурсов с помощью традиционных фискальных инструментов – налогов, расходов и найма служащих – или другими методами, требующими от частных граждан следовать предписаниям чиновников и предпринимать действия, издержки по которым лягут на самих этих граждан. (Однако в политическом плане, как мы увидим, выбор государственными чиновниками тех или иных инструментов для достижения своих экономических целей имеет чрезвычайное значение.)
Легко представить условия, при которых правительство будет большим и все же ограниченным. Высокий уровень налогов, государственных расходов и большое число государственных служащих могут понадобиться просто для того, чтобы защитить граждан от иностранных врагов и друг от друга. Даже если правительство ограничится только этим, его деятельность будет поглощать значительную долю экономических ресурсов страны. Но при этом частные граждане сохранят полную свободу в определении того, как использовать принадлежащие им ресурсы и доходы, остающиеся после уплаты налогов. В этом случае высокий уровень налогов означает лишь то, что сохранение упорядоченного и свободного общества обходится недешево. Примерно таковы были условия периода Гражданской войны, и самым заметным отклонением от этой идеальной модели стал воинский призыв в конце войны.
Современное налогообложение, конечно, уже не просто государственные поборы. В них изъятие частных ресурсов нередко сопряжено с регулированием поведения. Уиллард Хёрст отметил, что «особенно в ХХ в. налоговое законодательство пронизало процесс принятия предпринимательских решений и превратилось в форму экономического регулирования, определяющего налогооблагаемый доход, устанавливающего условия амортизационных списаний или налоговые скидки на инвестиции». Государство, налоговые поступления которого составляли постоянную долю национального дохода, смогло легко усилить свое вторжение в частную экономику простым изменением налогового кодекса. Оно напрямую поощряло одни виды деятельности и угнетало другие, установив соответствующие налоговые льготы и штрафы. В силу сложности налоговых обязательств, правил обложения и сферы действия налогов (не говоря об искушении просто уклониться от них) современное налогообложение порождает такие непредвиденные последствия, как отвлечение ресурсов на бухгалтеров, юристов и инвестиционных консультантов, что истощает потенциал производства товаров, нужных потребителям[53]. В США, особенно за четыре десятилетия после Второй мировой войны, создана постоянно усложняющаяся налоговая система, вопиющая об упрощении.
Все количественные показатели размеров государственного сектора не только не способны отразить истинную значимость налогов, государственных расходов и занятости, но и обладают одним общим дефектом: их изменение свидетельствует либо об изменении размаха полномочий органов государственной власти, либо всего лишь об изменении уровня, на котором они действуют в рамках прежних полномочий. С одной стороны, государство может увеличить свои расходы и численность служащих, чтобы охватить регулированием прежде не охваченные стороны частной экономической деятельности. С другой стороны, оно может увеличить свои расходы и численность служащих, чтобы улучшить или расширить судебную систему ради более скорого и эффективного проведения в жизнь существующих прав частной собственности. Два этих случая сильно различаются и по сути, и по своим последствиям для политической и экономической ситуации в стране, но стандартные количественные показатели этого различия не видят.
Даже при чрезвычайном изменении самого существа государственной власти количественные показатели могут зафиксировать лишь небольшие изменения либо полное отсутствие изменений. Затраты на содержание Верховного суда не зависят от того, в большей или в меньшей степени он защищает частную собственность от хищничества государства и других граждан[54]. Многие регулирующие органы обходятся казне совсем дешево, но при этом оказывают далеко идущее влияние на размещение ресурсов[55]. В ХХ в. американское государство избегало прямой национализации отраслей и предпочитало контролировать использование ресурсов путем регулирования частной промышленности[56]. Терпимое отношение к номинальной частной собственности не меняет важнейших экономических последствий регулирования, но издержки выглядят совершенно иначе. Когда владельцы промышленных предприятий по требованию Управления по охране окружающей среды или Управления охраны труда тратят миллиарды долларов, издержки классифицируются как частные. В таких условиях привычная интерпретация частных расходов как свободного выбора совершенно неуместна[57]. В условиях современного Большого Правительства традиционные количественные показатели, измеряющие размер правительства, совершенно не отражают эти ключевые особенности экономического регулирования[58].
Источником государственных расходов и создаваемой ими занятости служит государственная власть, но не они ее образуют. Прежде чем государство сможет расходовать средства или нанимать служащих, ему нужно заручиться полномочиями на достижение определенных общественных целей. Если соответствующие полномочия невозможно получить (вопрос законодательства) или сохранить (вопрос судебного разбирательства), то проблема решена: нет полномочий – нет программы. По остроумному замечанию Ричарда Роуза, наделяющий полномочиями закон – «ресурс sine qua non[59] современного государства», а его отсутствие «обрекает государство на бездействие»[60].
Без исходных полномочий обойтись нельзя, и потому в смешанной экономике базовым императивом политики становится обретение официального статуса. Как писал Ланс Лелуп, государственные органы «начинают скромненько, а потом заявляют, что программа в самом разгаре и останавливать ее нельзя… Легче защитить программу, уже осуществляемую органом власти, нежели обосновать необходимость новой программы»[61].
Расширив свои полномочия, государство может реализовать новообретенные возможности на различных уровнях, но само по себе использование большего объема ресурсов для реализации прежних полномочий вовсе не обеспечивает расширения масштаба сферы действия государства. К примеру, за последние три десятилетия расходы системы социального страхования на пенсии по старости увеличились на многие миллиарды долларов[62]. И все же тенденция к росту государственных расходов вовсе не означает разрастания Большого Правительства в послевоенный период. Федеральное правительство обладало полномочиями осуществлять эти выплаты с тех пор, как в 1930-е годы закон о социальном страховании был принят конгрессом, подписан президентом и одобрен Верховным судом. Новый потенциал для этого направления федеральной деятельности создали события 30-х годов, а последующие события определили лишь объем реализации этого потенциала. Подобно ограниченному правительству, Большое Правительство может действовать в широком коридоре ресурсных возможностей.
Храповик: традиционные и фундаментальные показатели
Многие ученые пришли к выводу, что традиционные показатели размера правительства указывают на существование в ХХ в. эффекта «храповика», т. е. прерывистого повышательного движения: после каждого значительного кризиса размер государства становился хоть и меньше, чем на пике кризиса, но больше, чем был бы, если бы вместо кризиса темпы роста остались прежними. Этот вывод в целом подтверждают, пусть и не без исключений, данные табл. 2.1 и рис. 2.1, 2.2 и 2.3. В зависимости от того, какой показатель анализируется и какой кризис рассматривается, «храповик» то виден, то нет. Однако каждый кризис указывает на эту закономерность если не по одному показателю, то по другому.
Но простые наблюдения не всегда позволяют прийти к убедительным выводам. Выйдет ли показатель после кризиса на уровень, более высокий, чем был бы в отсутствие кризиса, зависит от выбора точки отсчета. Тренд можно выявлять разными методами, и не всякий метод указывает на существование эффекта храповика. Подобная неопределенность может завести нас в трясину споров между статистиками и архитекторами никогда не существовавшего мира[63].
Обоснованная корректировка данных тоже может привести к исчезновению того, что вначале принимали за «храповик». Например, если исключить из послекризисных расходов суммы, предназначенные на пособия ветеранам и проценты по разросшемуся во время войны государственному долгу, на том основании, что эти платежи суть не что иное, как отбрасываемые кризисом длинные тени, то эффект храповика, казалось бы, возникающий после каждой из двух мировых войн, сильно уменьшается или даже вовсе исчезает[64]. Обоснованны ли подобные исключения? Все зависит от того, какая гипотеза проверяется, и особенно от того, идет ли речь о возросшем масштабе деятельности государства или о возросшем участии государства в формировании доходов индивидов.
Другой распространенный подход заключается в том, чтобы отделить федеральные расходы на оплату труда от аналогичных расходов низших органов власти и, соединив идею храповика с идеей, что кризис ведет к централизации власти, сосредоточиться исключительно на федеральной деятельности[65]. Но эффект храповика и централизация не обязательно связаны между собой – они могут проявляться и по отдельности. Кроме того, может не иметь значения и то, растет ли государственный сектор на федеральном уровне или более низком. В ХХ в. стало еще труднее различать уровни государственной власти. Федеральные субсидии штатам и местным органам власти поощрили их и позволили расходовать и нанимать людей больше, чем в отсутствие этих дотаций[66]. К тому же многое из того, чем занимаются органы власти низших уровней (например, программы штатов по страхованию по безработицы) представляет собой либо их вынужденное подчинение федеральным требованиям, либо участие в «добровольных» программах, за которые дорого расплачиваются те, кто не принимает в них участия. Когда деятельность и финансирование органов власти разного уровня переплетены настолько тесно, традиционные бухгалтерские разграничения могут приобрести искусственный и произвольный характер. Слияние юрисдикций затрудняет проверку гипотезы о централизации и делает сомнительным подход, рассматривающий органы власти какого-либо уровня так, будто оно независимо от органов власти других уровней. Программы, созданные конгрессом, зачастую проводятся в жизнь служащими местных органов власти. Поэтому в наблюдающемся после Второй мировой войны опережающем росте численности государственных служащих на низших уровнях власти нет ничего удивительного, да и ничего значимого[67]. Несмотря на многочисленные недостатки количественных показателей, представленных в табл. 2.1, экономисты и политологи, за немногими исключениями, продолжают исследования роста государственного сектора, опираясь на подобный фактический материал. Некоторые осознают проблематичность использования столь неоднозначных данных. Сэм Пельцман, например, начинает свою работу с замечания, что «отождествление роли государства в экономической жизни с величиной бюджета… это очевидная ошибка, так как многие виды деятельности государства (например, законодательные акты конгресса и административные требования) перенаправляют ресурсы столь же надежно, как налоги и государственные расходы». Но, обозначив проблему, он тут же отклоняет ее заявлением, что «имеющиеся данные не оставляют другого выбора»[68]. Это напоминает историю про пьяного, который ищет потерянные ключи под уличным фонарем, «потому что здесь светлее». Экономистам привычны эмпирические исследования, возбуждающие разногласия из-за отсутствия прямых показателей, строго соответствующих определяемым теорией переменным; отсюда бесконечные споры по поводу адекватности эмпирических показателей, об ошибках измерений, контроле трендов и т. п. Иногда раздоров по поводу эконометрических исследований избежать невозможно, потому что не существует подходящей альтернативы.
К счастью, эмпирический анализ роста государства не обязательно привязывать к стандартным количественным показателям, которые в лучшем случае дают неполную и сомнительную картину происходящего, а в худшем просто вводят в заблуждение. Мы располагаем другими данными, не только менее неоднозначными в эмпирическом плане, но и более уместными в теоретическом. Как заметил Роуз, «данные всегда найдутся, если постараться и если позволяет предмет»[69]. Я утверждаю, что высокий уровень налогов, государственных расходов и занятости являются результатом Большого Правительства, но не составляют его существа. Сущность же Большого Правительства состоит в масштабе его полномочий по принятию экономических решений. Полномочия – прежде всего: если нет полномочий, то нет ни налогов, ни расходов, ни армии государственных служащих. Источником полномочий являются распоряжения исполнительных органов власти, принимаемые конгрессом законы, решения судов и директивы регулирующих ведомств. Все они открыты для исследователей. И они не становятся менее важными оттого, что их нельзя представить в виде ровной колонки цифр, которыми так легко и удобно оперировать, и оттого, что для оценки их смысла и значимости нужно приложить немалые усилия. Если экономист не расположен к анализу такого рода фактов, ему, возможно, следует сменить сферу деятельности. Ключи, потерянные в темной подворотне, не найти ни под фонарем, ни даже под мощным прожектором. Зрелище экономиста, использующего потрясающую технику математического и статического анализа для обработки в высшей степени сомнительных и вводящих в заблуждение данных, может только отвратить того, кому важнее понять реалии этого мира, а не изумить коллег аналитической пиротехникой.
Но если сосредоточиться на фундаментальных вещах – на формах и последовательности расширения власти государства над размещением ресурсов, – можно получить достаточно внятное и адекватное представление о процессе роста государственного сектора. При таком подходе важны факты, характеризующие потенциал государства. Экономистам известна разница между производительным потенциалом экономики и степенью реализации этого потенциала. Один из разделов экономической науки, теория экономического роста, посвящен пониманию первого, а другой, макроэкономика, имеет дело со вторым. При этом экономисты и многие политологи, занимающиеся изучением государственного сектора, действуют так, будто масштабы деятельности государства можно понять, не уделяя внимания базовому потенциалу. Однако демократическое государство не может заниматься тем, на что у него нет полномочий. Полномочия первичны, а деятельность вторична и проистекает из полномочий. Долгосрочный рост выпуска в экономике почти целиком зависит от роста производственного потенциала, а не от степени реализации этого потенциала в любой данный период времени. Точно так же и долгосрочный рост экономической активности американского государства зависел преимущественно от возрастания масштаба полномочий государства по оказанию влияния на принятие экономических решений, а не от того, в какой степени в то или иное время этот потенциал был реализован.
Удается ли обнаружить эффект храповика в ходе исследования расширения в ХХ в. полномочий государства по влиянию на принятие экономических решений? Полагаю, да. Не думаю, что историки станут спорить с моим выводом. Но этот вывод невозможно убедительно документировать в такой же сжатой и обозримой форме, как при использовании традиционных количественных показателей роста государственного сектора. Вокруг полным-полно убедительных иллюстраций: взять хотя бы глубокую вовлеченность государства в отношения менеджмента и рабочих, в систему социального страхования, сельскохозяйственные рынки, финансовые учреждения или огромный военно-промышленный комплекс – все это возникло в ходе прошлых кризисов на основании распоряжений исполнительной власти, законов, принимаемых конгрессом, решений судов и других властных действий. Но иллюстрации – это всего лишь иллюстрации. По-настоящему убедительные свидетельства в пользу моего тезиса может дать только обширный исторический анализ. А сейчас я приглашаю читателя принять мои утверждения только в качестве правдоподобного исходного пункта исследования. В свое время я представлю множество доказательств.
Выводы
В ХХ столетии государственный сектор вырос несоизмеримо по сравнению с экономикой в целом. Если оценивать этот рост с помощью обычных количественных показателей, сегодня государственный сектор то ли в три, то ли в шесть раз больше, чем до Первой мировой войны. Значительная часть этого роста приходится на краткие периоды общенациональных чрезвычайных ситуаций, и прежде всего на две мировые войны и Великую депрессию. Но зачастую с влиянием предыдущих кризисов можно увязать даже тот рост, который происходил в обычные времена. Источником большей части роста государственного сектора является общенациональная чрезвычайная ситуация, особенно если рассматривать этот рост как распространение полномочий государства на принимаемые в экономике решения. Эффект храповика обнаруживается не только в многих аспектах роста государственного сектора, измеряемого стандартными количественными показателями; важнее то, что он проявляется в том, что отражает самую суть возникновения Большого Правительства – в расширении сферы государственного принуждения в экономической жизни. Если бы мы смогли измерить то, в какой мере за последние семьдесят лет способность определять размещение ресурсов перешла от частных граждан в руки правительственных чиновников, мы обнаружили бы, что размер правительства увеличился не в три и не в шесть, а в гораздо большее число раз. Но мы не располагаем такого рода количественными показателями, и вряд ли они будут созданы. Однако отсутствие надежных количественных показателей для измерения одной простой зависимой переменной вовсе не причина отказываться от исследования. Есть данные иного рода, и их чрезвычайно много. Задача в том, чтобы на основании этих данных сделать здравые, значимые и убедительные выводы.
Глава 3
Об идеологии как аналитической концепции в изучении политической экономии
Верования имеют значение. При исследовании человеческой деятельности нет ничего важнее, чем понять, во что верят действующие лица. Для многих ученых это методологическое рассуждение просто трюизм. Однако экономисты и политологи нередко им пренебрегают. В экономической теории основой для теоретизирования о рынках долго служило – и служит до сих пор – предположение об идеально информированных, совершенно рациональных и узко эгоистичных потребителях и производителях. В политическом анализе часто предполагается, что избирателям известны все существенные факты о политиках и политике и что политики точно знают, чего хотят их избиратели, и пытаются дать им желаемое. В действительности, однако, знание всегда и везде ресурс редкий, оно достается недешево и, следовательно, редко бывает в изобилии. Посему неизбежно, что люди действуют в более или менее плотном тумане неведения и неопределенности. Признание этой реальности улучшит понимание социального поведения и институтов[70].