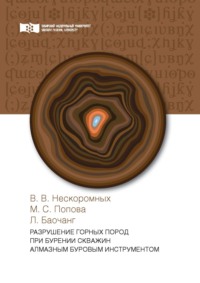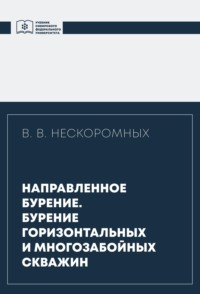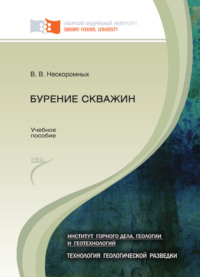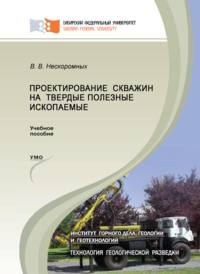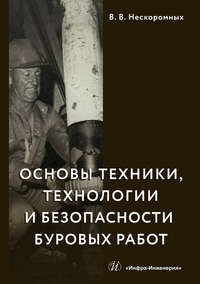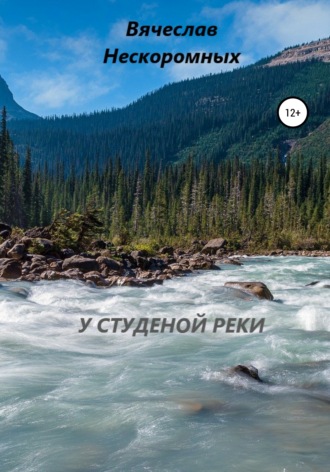 полная версия
полная версияПолная версия
У студёной реки
3. И конечно, в контексте выбранной темы об искажении пространства во времени, нельзя не вспомнить более современную, уже ленинградскую историю, описанную Сергеем Довлатовым в книге «Соло на Ундервуде» о другом конфликте ярких писателей уже нашего, а именно, советского времени. Суть конфликта и его истоки не ясны совершенно, но атмосфера его – некоторый алкогольный угар двух маститых и талантливых литераторов. Речь идет об Андрее Вознесенском и Андрее Битове.
Конфликты между литераторами и несколько агрессивным в то время Битовым заканчивались, конечно, не дуэлями, а просто потасовками и разбитыми носами. Андрей Битов очень не любил Вознесенского и временами набрасывался на него с кулаками. Решили разобраться и приструнить драчуна. Для этого собрали товарищеский суд писательской организации.
Спрашивают Битова:
«За что бьете поэта Вознесенского?».
Битов честно рассказывает:
«Простите, я не виноват. А дело было так. Захожу я в «Континенталь», смотрю, стоит Вознесенский. И скажите, как я мог не дать ему по физиономии?»
О том же А. Битове, в подтверждение его неуживчивого характера, есть другая история в контексте повествования.
О ней пишет Ю. Алешковский.
Писатели А. Битов и В. Цыбин повздорили на вечеринке. Битов кричит: «Я тебе морду набью!».
Цыбин отвечает:
«Бей, я тебе не отвечу, я – толстовец! Я подставлю тебе другую щеку!».
Их оставили одних – слышат шум, удары и крики.
Вбегают в комнату все присутствующие: Цыбин сидит на лежащем на полу Битове и колотит его огромными кулаками по окровавленному лицу.
Дерущихся разняли, конечно.
Вот так!
Как любит говорить В. В. Познер: «Вот такие времена».
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
Весна, Париж, набережная Сены, столики кафе с видом на Нотр-Дам-де-Пари, запах кофе и цветущие каштаны, набухающие чернильной синевой гроздья сирени. А среди этой цветущей сиреневой черноты, как надежда на лучшее – яркие как небо над Парижем голубые цветы глицинии…
Небо чистое, но воздух еще утренний, с весенней бодрящей прохладой. Тротуары неспешно убирают после ночных гуляний…. Жизнь в большом и красивом городе набирает ход.
Татьяна Яковлева горестно склонилась над столиком в кафе, позабыв о чашке кофе, которую ей принёс весёлый галантный гарсон вместе с утренней газетой.
Раскрытая теперь газета от 14 апреля 1930 года лежала на самом краю столика. На первой странице броско набрано: «Известный русский поэт Маяковский умер! Застрелился в Москве!».
Газета свисала со столика, и красный текст заголовка как бы стекал по отвисшему углу газеты кровавыми сгустками, а на полу, рядом со столиком прямо под газетой, уже лежали несколько алых лепестков, опавших из букета, принесенного Татьяне посыльным накануне в её дом, – как капли крови поэта-бунтаря у ног не оценившей его когда-то возлюбленной….
Ушел поэт из мира, не дождавшись ответа на порывы своей возлюбившей души, на пылкие признания, облечённые в утонченные формы и яркие, нежные цвета фиалок, орхидей, нарциссов, роз, тюльпанов, астр, лилий…
Закончил жизнь сухо, но не без свойственного оптимизма:
«…… счастливо оставаться.»
Владимир Маяковский. 12.04.1930 г.
Странное чувство потери сжало сердце женщины.
Но вот – странность!
Ведь не был ей Владимир Маяковский ни другом, ни тем более любовником. Виделись на приемах в Париже всего несколько раз, когда Красный Поэт приезжал с выступлениями.
Собирал Маяковский полные залы и мгновенно заряжал пространство своим неистовым магнетизмом и громовым голосом, возвышаясь над публикой с высоты своего недюжинного роста в позе человека крепко стоящего на широко расставленных ногах и противодействующего стихии, всему миру и мощному встречному потоку неприятия наклоном крепкого тела с остриженной наголо головой. Поэт изрекал свои стихи конвульсиями, как казалось, огромного, даже, казалось, уродливого, громыхающего фразы, рта. А он и говорил, говорил много, громогласно и часто не понятно, как-то преобразуя, казалось бы, знакомые слова в несколько иные смысловые формы и понятия.
Татьяна случайно, увлечённая друзьями, оказалась на выступлении Маяковского.
Потом вдруг оказался рядом с ней.
Их познакомили навязчиво, и она сразу поняла своим женским природным чувством его жгучий интерес к ней. При второй и третьей встрече он уже рвался своей сутью к ней навстречу и так неистово, что Татьяна испугалась и закрылась на все мыслимые условные крючочки своей души. Поэт кипел и пламенел, источал и лелеял, то краснел, то бледнел, но…. сердце утонченное совершенно не желало ни общения, ни близости…..
Татьяна испугалась, спряталась, сослалась на дела, некое душевное своё состояние и более не отвечала на звонки.
А потом он стремительно уехал.
Казалось – все закончилось, не начавшись. И уже спàла совсем тревога, как вдруг утром, после чашки свежего кофе стук в дверь и фраза, с которой начинался теперь так часто её каждый последующий парижский день:
– Это Вам, мадам Яковлева, от господина Маяковского!
Как правило, подтянутый молодой человек в униформе цветочной компании, стоял, почтительно склонившись у порога её квартиры, и галантно протягивал ей ароматный, фантастически красивый букет. Это могли быть то ли розы, то ли фиалки, георгины, или черные тюльпаны и прочие прекраснейшие цветы мира и фантастически искусно составленные из них букеты.
Запахи цветов и очарованье букетов были тем раствором, который раз за разом растворял и менял её первое настороженное или даже нелестное впечатление о поэте, с именем которого и связывались теперь эти утренние цветы и светлые эмоции, дарившие ей настроение на весь день.
Цветы приносили Татьяне через сутки, строго по графику, и ими уже была заполнена вся квартира: подоконники, стеллажи, столы и даже пол у окна были заставлены благоухающими цветочными букетами. Приходилось, и стало уже привычным, ухаживать за ними, расставлять, докупать новые и новые вазы для их размещения. Сначала мысли, а потом опасения, что скоро это волшебство закончится, прошли, когда минули месяцы, потом год, второй.
Время шло, – но цветы прибывали….
Выяснилось вскоре, что Владимир Маяковский немалые деньги, полученные от французских импресарио за выступления в Париже, вложил в известную и авторитетную цветочную фирму, обязав доставлять по известному адресу свежие букеты без каких-либо ограничений по времени, обрекая Татьяну на внимание к своей персоне.
Теперь она вынужденно думала о нём постоянно.
И вот, минули два года, и пришла … эта горькая весть о смерти человека, который стал настолько близким, что удивительно – как такое могло произойти без личного общения.
Сердце страдало.
Все же нежное чувство проросло к этому сложному и непонятному для неё человеку через коросту неприятия. Бунт духа над плотью свершился и принес результат.
Со смертью поэта цветы не пропали из дома, их также исправно приносили с фразой:
«От Маяковского!».
И так шли годы, взрослели и менялись лишь иногда посыльные – заинтересованные свидетели их романа. Цветы стали символом и окружением, опорой, духом и оформлением жизни Татьяны Яковлевой.
Потом случилась страшная Мировая война, позор национального поражения и нищета при полном отсутствии возможности что-то заработать и обеспечивать себя без публичного унижения.
Но цветы всегда в цене!
Ибо, любовь не знает времени забвения и юные сердца пылают только ярче, когда разлука и смерть ходят по нашим улицам.
Татьяна стала продавать роскошные букеты, и для неё вполне хватало средств и на утренний ароматный кофе, и теплые круасаны. Цветы спасли её в эти тяжелые времена унижения Парижа.
Минули тяжкие военные годы, жизнь наладилась, и как она могла не наладиться, когда в первой половине дня по-прежнему раздавалось:
«От Маяковского!»
и новый благоухающий букет поселялся в доме, бередя память и даря заботу когда-то не ответившей на любовь, но всю жизнь благодарной поэту женщине.
Есть свидетели, что эта история продолжалась до семидесятых годов, то есть практически полвека, – до кончины самой героини этого необычного романа.
И можно спорить – сбылось или не сбылось утверждение самого поэта, изложенное в стихах, адресованное Татьяне Яковлевой – русской парижанке:
«Я все рано тебя когда-нибудь возьму – одну или вдвоем с Парижем».
Вот такой он был поэт Владимир Маяковский!
И вспоминается его мощное:
«…Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!»
И светит, и согревает порой души как свет далекой теперь уже от нас звезды.
У СТУДЁНОЙ РЕКИ
Студент стоял на краю огромного сооружения – плотины ГЭС, перегородившей ущелье многомиллионными кубами бетонного конгломерата. Под ногами сложной изломанной жизнью жила река – могучий Енисей втягивался плавно в створы плотины с одной стороны и выскакивал как ошпаренный и обезумевший от боли многоликий зверь с другой. Грохот многих сотен тысяч, миллионов тонн воды – непрерывный и могучий, как вой вепря, совершенно несравнимый с чем либо, давил на сознание, вызывал и восхищение, и невольно подступающий ужас.
Плотина только строилась, перегородив одно из ущелий Западного Саяна, и до её пуска было около полугода, о чем свидетельствовала гигантская, несколько метров высотой, надпись, вывешенная прямо на скале:
«До пуска ГЭС осталось 156 дней», но казалось, что построить плотину за время, отведенное заранее, не представляется возможным, столько вокруг строительства и самой плотины было всего временного, неухоженного, полуразрушенного, шаткого и неказистого.
Плакат висел на скале, на многометровой высоте и было непонятно, как менялись ежедневно цифры в раме, напоминающей стадионное табло у футбольного поля в районном городишке, по мере убывания срока наступающего события − пуска ГЭС.
Но огладывая гигантскую бетонную плотину и нагромождение строительного железа вокруг, необычные масштабы строительного процесса, сразу перестаешь удивляться такое мелочи, как трудность замены цифры на скале или отсутствие надежных ограждений на самом краю строящегося сооружения.
Студенту со спутником, ‒ штатным геологом партии, следовало преодолеть высоченную плотину по шатким лестницам и далее следовать в полевую геологическую партию на берегу таежной реки, впадающей в Енисей выше по течению.
Река та, звалась гордо, – Кантегир.
На обратной стороне плотины у деревянного причала уже ждала путников длинная, узкая, элегантная своими плавными обводами и с загнутым кверху носом, смоленая дочерна лодка.
Савич, так величали хозяина лодки, был из местных. Слыл лодочник и охотник знатоком шумных студеных рек, спускавшихся к Енисею стремительными потоками с крутых склонов Саян, преодолевающими многочисленные перекаты и «трубы-дудки», − узкие, как горловина каменного кувшина, места в русле реки. Беснующаяся вода несла дикую неукротимую энергию молодых гор, стремительно отплясывала на отмелях, буравя в водоворотах скалистые берега и двигая камни, постоянно, ежемгновенно что-то перестраивая и совершенствуя в конструкции своего русла.
Река была полна рыбы – ленками, тайменями, но в основном хариусами, натренированными быстрыми и студеными реками до такого физического совершенства, что пойманного пятнистого красавца невозможно было совершенно удержать в руках, так он бился и извивался, демонстрируя неукротимую мощь изящных форм и жажду свободы.
Вновь прибывшие живо расселись в лодке, а Савич, добродушно оглядев пассажиров, оттолкнул от себя нагретый солнцем причал жилистой и сухой рукой и отчалив от мостков, запустил мотор. Лодка сразу без раскачки стремительно пошла против течения, и в разговоре выяснилось, что Савич теперь здесь на реке самый «ходовой» хозяин и мастер.
Самым «ходовым» Савич стал после того, как отчаянный и неведомый пассажирам лодки Дедюхин не вернулся из тайги, а его лодку, изрядно побитую, обнаружили через пару недель, аж за третьим порогом свирепого Кантегира.
Самого Дедюхина не нашли, а в том месте на берегу, где обнаружили лодку, соорудили высокий лиственничный крест, который так и стал зваться «дедюхинский». Также теперь называли и порог на реке – мало кому поддающийся при подъеме против течения реки третий порог Кантегира.
Дедюхин был и остался личностью уважаемой и почитаемой местными рыбаками и охотниками, а, учитывая его былые свершения, уже становился человеком-легендой. Из уст в уста передавалась весть о том, что Дедюхин всегда сам строил лодки, знал из чего и как их делать, ведал секретами и его лодки были лучшими в округе.
Савич, постукивая по борту своей лодки, подчеркнул, – строил сам, но под приглядом Дедюхина. Подобная аттестация была лучшей рекомендацией лодке. Дедюхиным была построена добрая половина местных лодок, а остальные более или менее удачно скопированы с его творений. Личная лодка Дедюхина, тем не менее, оставалась вне конкуренции – столько в нее было вложено труда и таланта мастера. Обводы лодки были идеально симметричны и обтекаемы, лодка прекрасно держала поток и волну, была устойчива, вместительна, легка в управлении и прочна. От лодки в этих местах зависело не то, что многое, – зависело на реке в тайге всё.
Быстрые студёные потоки тестировали суденышки несговорчиво-жестко и непримиримо. Например, закупленные геологической партией неплохие для равнинной реки дюралевые «Казанки» в здешних местах не могли подняться по Кантегиру и пары километров – в первом же скоростном потоке вставали, натужно ревя мотором. Более мощные моторы спасали мало – в первой же «дудке» «Казанку», при попытке пройти поток, сдуло как пух сквозняком, и лодку с перепуганным водителем грузовика Вовкой, – тоже из местных, еще долго пытались остановить, так раскрутило её водоворотом.
«Ходовитость» Савича была теперь первейшая от того, что он несколько раз ходил за второй «чумной», как говорил сам Савич, порог, а третий преодолел только дважды, но по «доброй» воде, когда основные речушки и ручейки Саянских гор несколько мелели и поили свирепую реку умеренными дозами, что несколько успокаивало строптивую воду.
Теперь, оказавшись на службе в партии, и зная досконально здешние места, где отработал охотоведом пару десятков лет, Савич вёз новых сотрудников на место дислокации геологической сезонной партии – штатного геолога Михаила и Студента, прибывшего на практику. Михаил вернулся из отпуска и прибыл в новую партию, которая с апреля разместилась в Саянах для поисков коренного месторождения нефрита, а также для изучения и отработки найденного в этих местах месторождения жадеита.
Это всё были породы ценных ювелирно-поделочных камней.
На реке геологами были обнаружены валуны нефрита. Окатанные, гладкие, они лежали у воды, подобно смоляным тушам необычайно грузных морских зверей – сивучей и моржей, лоснясь на солнце. Валуны нефтира также находились вросшими в песок и камни на берегу. Были также отмечены валуны нефрита, утопленные в реке. В реке нефрит брать было невозможно, но достаточно валунов по тонне-две весом располагалось и на суше, на бережке, в тех местах русла, которые в обильные дожди закрывались водой.
Главной же задачей геологов был поиск коренного месторождения ценного ювелирно-поделочного камня, что сулило многие блага первооткрывателям и геологической партии. Интерес представляло и небольшое проявление жадеита, которое острой скалой выпирало на склоне горы, словно прорезавшийся зуб неведомого гиганта. В скале торчащего из земли серпентинита в виде ярких очагов, астраханскими арбузами, зеленел ядовито травянистый жадеит – редкий поделочный камень, который при определенных генетических качествах мог быть оценен не ниже изумруда. Таких месторождений насчитывалось мало, а поэтому был отмечен значительный интерес научной и иной общественности к партии, объекту изучения и добычи редкого камня.
Теперь плывя по реке, пока только по плавному в своем течении Енисею, пассажиры осматривали берега могучей реки зажатой тесниной гор, вглядывались в скалистые берега и стройные ряды кедров, лиственниц, елей и пихт.
– Зверья, тут – уйма! – прервал молчание, предварительно хлебнув неведомого напитка из странной помятой бутылочки-термоска, Савич.
– Здесь же начинается заповедник – а в нём обитает непуганый и никем не считанный зверь. Бывало, пойдешь на охоту – ходишь, ходишь – пусто. А сюда на полянку заповедную зайдешь как бы невзначай и быстренько «бах, бах!» – и готово! Тут тебе и соболь, и белка, лисица, и изюбрь на сковородку, – продолжал рассказ Савич.
– Ну, вот он, – Кантегир! – восхищенно и с нотками тревоги в голосе изрек Савич, поворачивая лодку вправо в створ открывшейся взорам устья реки, стремительно вливающейся чистейшим потоком в мутноватые воды Енисея.
Отмечая торжественность момента, Савич снова отхлебнул из чеплашки и ещё более потеплевшими глазами осмотрел пассажиров, которые ранее наслушавшись рассказов о свирепой реке, попритихли и призадумались.
–Не боись – служивые! Река не даст потонуть – все равно на берег высадит – не боись, ‒ проверено, ‒ закончил Савич, хитро ухмыляясь и думая о том, что конечно на берег-то высадит, только понять и ощутить этого, как часто бывало, пловцам по несчастью может быть уже будет и не дано.
Но пока все шло без особого напряжения, только мотор гудел более натужно, преодолевая теперь более быстрое течение притока, да временами брызги вылетали из-под носа лодки, мелкой прозрачной и холодной пургой обдавая плывущих.
–Щас будет «дудка»! Ни боись! Эту шаловливую стервозу я проскакиваю на ура! – как-то резко повеселев, уже несколько хвастливо и делано заносчиво, произнёс лодочник. Тем не менее, в голосе и движениях опытного таёжника ощущалась нарастающая неуверенность.
Впереди открылся узкий проход между вертикальной и нависающей стеной справа и невысокой, тоже вертикальной и плоской по верху стеной берега слева. Проход был чрезвычайно узок – весь объем воды на данном участке собрался в теснине размером в десятки раз меньшем, чем ширина русла, а от того река в этом месте разгонялась невероятно – просто выстреливала из «дудки».
Вода стремительно летела навстречу лодке, сваливаясь сверху яростным и могучим потоком. Уже не было слышно и мотора, только рёв воды давил и рвал ушные перепонки, когда нос лодки ткнулся в упругий живой поток, как в стену и стал продвигаться вперед и вверх почему-то рывками, с остановками на пару, тройку мгновений. Скорость движения лодки была так мала, что её можно было оценить, только уперев взгляд в продвигающуюся вдоль лодки стену скалы. Было страшновато и все, за исключением Савича, смотрели, несколько унимая беспокойство, на стену скалы, изучая изгибы трещин и минеральных прожилков на ней. Савич же цепко глядел вперед, удерживая строго одной рукой мотор, а второй вцепившись в борт лодки. Десяток метров узкой «дудки» преодолевали пару-тройку минут, которые показались бесконечными.
Но все заканчивается рано или поздно, закончилось и восхождение через «горлышко» Кантегира и снова открылась панорама реки – крутой её берег справа и заваленный камнями и глыбами – «шатрами» и «чемоданами», пологий левый берег. А вокруг стояла тайга – и справа и слева, уходившая резко вверх по склонам молодых островерхих Саянских гор.
Савич, отметивший проход «дудки» новой порцией из заветного сосуда, лихо вел свое судно вперед, которое вальсировало теперь между валунов, демонстрируя высокий уровень управляемости. После преодоления «дудки» сразу стало потише, и лодочник-мастер поделился, что по реке можно ходить только сейчас летом. Весной и в начале лета, когда много воды и более простые места проходить невозможно. То же самое и в дожди. Как пойдут дожди в верховье, река вздувается стремительно.
– Ох! Сколько здесь народу осталось в такие-то времена! Плохо ходить по реке и когда засуха. Тогда река мелеет и слишком много каменюк вылазит на свет Божий. Дурная, чумная тогда вода, ‒ продолжил свой рассказ о реке Савич.
Подходили к первому порогу Кантегира. Савич посерьезнел и, причалив к левому пологому берегу, приказал:
– Все из лодки марш на выход! Вещи свои возьмите. Если, что – лагерь партии в паре километров по берегу. А пока идите вон к тому плёсу, там я вас подберу.
Идти берегом нужно было метров пятьсот. Шли тропой по камням и зарослям, обходя скопления воды в низинках и огромные валуны. На реке в один из моментов была видна лодка с Савичем, которая затем скрылась из глаз за скалой.
Река кипела и кидалась на торчащие из дна камни и обломки скал. Водовороты кружили опасную кадриль, переходя мгновенно на быструю чечетку и энергичный гопак. Между этими противоречивыми потоками нужно было проскользить, проструиться, особенно не противореча им, но и не поддаваясь их напору, уходя от прямого столкновения и оставаясь на плаву, выныривая иногда чуть ли не со дна реки. Изредка лодку так кидало вниз, что она продавливала воду и стукалась килем о камни дна. Это было крайне опасно. Винт мотора мог сломаться и тогда: «… прощайте скалистые горы…» ‒ беспомощная лодка по воле потока будет лететь вниз, практически мало управляемая и непременно расшибется о торчащие валуны или скалистый берег.
На сей раз, все прошло удачно.
Савич причалил выше по течению, уже за порогом, раньше подошедших и взмокших под поклажей своих пассажиров и деланно равнодушно оглядел их. Все расселись по местам, и лодка вновь пошла вверх, за тем, чтобы причалить уже на песчаном и каменистом плесе у лагеря полевой партии, расположившейся у студеной реки и на дне будущего моря-водохранилища, которое будет собрано огромной плотиной, перегородившей Енисей.
Весь лагерь, – десяток вместительных палаток, навес над костровищем и длинным обеденным столом, да склад взрывчатых материалов в достаточном отдалении от палаток, раскинулся у реки среди леса.
Прибывших встретил инженер партии Виктор – средних лет студент-заочник, спортсмен-лыжник и просто хваткий, и энергичный малый, который и вершил в отсутствие начальника партии Сергея Николаевича все дела. Особенно получались у Виктора дела хозяйские – тут он не упускал своего. Сергей Николаевич снова отсутствовал, и дела в партии шли сложившимся порядком. Правда при этом партия не выполняла план ни по горным работам, ни по добыче и вывозке нефрита, ни по геологическим маршрутам. Тем не менее, Виктор был весел, энергичен и лучился лукавой улыбкой умной, все понимающей и многое предчувствующей наперед собаки. Образ собаки подсказывало выражение лица и фигура Виктора – смотрел пристально, как бы принюхиваясь и, казалось, вот-вот начнет помахивать несуществующим хвостом. Оглядев мельком и подбодрив Студента приветствием, Виктор направил его располагаться в лагере.
Решив этот незатейливый вопрос, Виктор подошёл к Савичу и стал его что-то вкрадчиво выспрашивать, торопливо перекладывая какие-то предметы из сумки Савича к себе в мешок, вновь и вновь что-то настоятельно объясняя лодочнику: Савич должен был вернуться завтра поутру назад.
– Опять что-то крамчит, вот поросячий вертлявый хвост! – вполголоса сказал Игнатич – пятидесятилетний сезонный рабочий, призванный в партию по зову беспокойного сердца и исстрадавшейся за зиму печени.
Поздней осенью, зимой и ранней весной Игнатич работал в кочегарке в городе, в которой часто и проживал, гонимый из дому сварливой и вечно раздраженной женой. За зиму, бывало, выпито немало водочки, сивухи и часто всяких аптечных растворов и настоек.
Измученный «нарзаном» Игнатич по весне срывался с места, собирался в дорогу и здесь вдали от цивилизации, придуманных ею магазинов и рестораций, вынужден был отдыхать в режиме «сухого закона», чему был в тайне несказанно рад. Организм, правда, поначалу бунтовал, но после третьей поездки Игнатича «в поле», обвыкся и смирился с резкой сменой характера энергетической подпитки.
Здесь в партии Игнатич вновь округлился, порозовел и смотрелся молодцом, и уже стал нешуточно заглядываться на повариху. А сидя у костра после работы и добротного ужина Игнатич с некоторым недоумением теперь вспоминал темный закопченный замусоренный подвал и привычную поутру кружку суррогатного напитка, чефир долгими вечерами. В настоящий момент обновленная душа никак не принимала городской уклад жизни.
–Да, что, там не ясно. Водку видимо привез Савич для Виктора. А еще сказывают, получили какой-то дефицитный инвентарь – вот и прибирает, ‒ вставил Гриша взрывник.
– Куда ему водка, он же, как будто не пьет, − подивился Игнатич, с тоской вспомнив, как блаженно растекается по жилам тепло, дурманит голову и резко веселит сердце от первой выпитой стопки.
–Куда? Да он к охотникам на заимку бегает, ‒ думаешь зря? Ему что, лосю, пары десятков километров не пробежать? А оттуда он, сказывают, таскает что-то. Меняет видимо, на водяру, жратву и прочие ценные в тайге вещицы. Шкурки может? Но какие летом шкурки? – отреагировал Сергей, − друг Гриши.