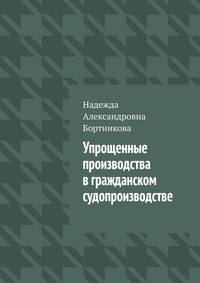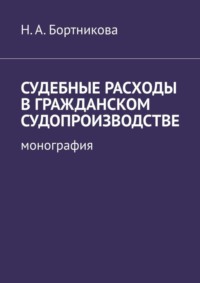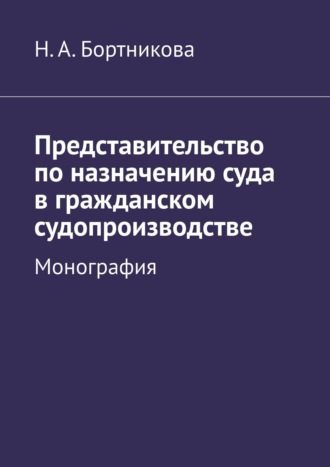
Полная версия
Представительство по назначению суда в гражданском судопроизводстве. Монография
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №67-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании“ и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» в ст. 284 ГПК РФ были внесены изменения, суть которых в повышении гарантий на участие в судебном разбирательстве лиц, в отношении которых решается вопрос о признании их недееспособными. Теперь гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих, для предоставления ему судом возможности изложить свою позицию лично либо через выбранных им представителей. В случае, если личное участие гражданина в проводимом в помещении суда судебном заседании по делу о признании гражданина недееспособным создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих, данное дело рассматривается судом по месту нахождения гражданина, в том числе в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарном учреждении социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, с участием самого гражданина. Нормативно также закреплено право таких граждан лично либо через выбранных им представителей обжаловать соответствующее решение суда в апелляционном порядке, подать заявление о его пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, обжаловать соответствующее решение суда в кассационном и надзорном порядке, если суд первой инстанции не предоставил этому гражданину возможность изложить свою позицию лично либо через выбранных им представителей. 143
Таким образом, назначение представителя судом во втором случае выводится из анализа правовых норм. Такая позиция может быть не всегда очевидна для правоприменителя и поэтому требует четкого закрепления.
Примером, на наш взгляд, спорного толкования указанных норм права является решение Мотовилихинского районного суда г. Перми от 10 января 2013 г., которым удовлетворены исковые требования открытого акционерного общества «Сбербанк России» в лице Пермского отделения о взыскании задолженности по кредитному договору с О., который на момент судебного разбирательства находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. Это решение было оставлено в силе определением Пермского краевого суда от 10 апреля 2013 г. по делу №33—3107/2013, указавшему, что ст. 7 Федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» касается защиты прав и законных интересов гражданина при оказании ему психиатрической помощи и не содержит прямого указания на обязанность суда назначить адвоката лицу, находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре при рассмотрении гражданского дела в порядке ст. 50 ГПК РФ. 144
В названном случае ответчик, проходящий принудительное лечение в психиатрическом стационаре, так же как и в ранее приведенных примерах дел о принудительной госпитализации и в следующем примере рассмотрения гражданского дела, независимо от вида судопроизводства и категории гражданских дел не имеет реальной возможности участвовать в гражданском судопроизводстве по независящим от его воли причинам.
Решением Суздальского районного суда Владимирской области от 10 октября 2011 г. удовлетворены исковые требования Суздальского межрайонного прокурора: прекращено действие права К. на управление транспортными средствами и действие водительского удостоверения категории «A, B, C», выданного РЭО ГИБДД ОВД по Суздальскому району Владимирской области. В рассмотрении дела участвовал адвокат, назначенный судом в порядке ст. 50 ГПК РФ ответчику К., находящемуся на лечении в Костромской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Представитель по назначению – адвокат О. возражала против удовлетворения иска, указывая на то, что К. имеет большой водительский стаж, и его состояние здоровья не является препятствием к правлению транспортными средствами. В последующем представитель по назначению – адвокат О. подала на судебное решение кассационную жалобу, в которой просила решение суда отменить, полагая его незаконным и необоснованным, основанным лишь на заключении комиссии экспертов и без установления других доказательств. В кассационной инстанции интересы ответчика К. представлял уже другой адвокат, назначенный в соответствии со ст. 50 ГПК РФ уже судом кассационной инстанции. Определением Владимирского областного суда от 22 ноября 2011 г. №33—3908/2011 решение Суздальского районного суда Владимирской области от 10 октября 2011 г. оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. 145
Считаем, что ограничиваться только исследованными нормативными предписаниями, связанными с дееспособностью физических лиц, недостаточно. Предложения по расширению этой группы будут изложены в главе четвертой.
Из практики судов можно сделать вывод о возможности сочетания в одном деле двух оснований для назначения ответчику представителя судом. Решением Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2013 г. удовлетворен иск Надымского городского прокурора, поданный в интересах неопределенного круга лиц к М. о прекращении права на управление транспортными средствами. Ответчику М., место жительство которого установить не удалось, судом был назначен представитель в порядке ст. 50 ГПК РФ. А основанием для удовлетворения иска послужило ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»): с 1997 г. М. неоднократно помещался в медицинский вытрезвитель; в 2003 году был взят под диспансерное наблюдение, снят в 2008 году в связи с ремиссией; в 2013 году на основании заключения врачебной комиссии вновь взят под диспансерное наблюдение в связи с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя начальной стадии». 146 147
В качестве , как уже отмечалось, могут быть выделены случаи назначения судом представителя на основании ст. 26 Закона об адвокатской деятельности, т. е. гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь. Хотя здесь речь также ведется о назначении представителя судом, не следует забывать, что малообеспеченный участник процесса может самостоятельно выбрать себе представителя, определить объем его полномочий, согласовать с ним правовую позицию. Несовершеннолетний всегда имеет законных представителей. Здесь, в отличие от первых двух групп, может и должна проявляться воля самого представляемого, законного представителя несовершеннолетнего. И это существенное отличие ведет к отнесению случаев назначения судом представителя на основании ст. 26 Закона об адвокатской деятельности к договорному виду судебного представительства. самостоятельных
При толковании ст. 50 ГПК РФ в широком смысле с учетом положений ст. 48 Конституции РФ и ст. 26 Закона об адвокатской деятельности имеется возможность назначить адвоката в качестве представителя малообеспеченному лицу и иным лицам, которым государством гарантируется бесплатная юридическая помощь. Как уже отмечалось в первом параграфе, аналогичное положение существовало и в дореволюционном судопроизводстве. Согласно п. 4 ст. 367 Учр. суд. уст., совет присяжных поверенных имел право назначения поверенных по очереди для безвозмездного хождения по делам лиц, пользующихся на суде правом бедности. На основании п. 5 ст. 367 и ст. 392 Учр. суд. уст. совет присяжных поверенных мог назначить поверенных и иному тяжущемуся, обратившемуся в совет с просьбою об этом, если тяжущийся не мог сам прибыть в город, где должно производиться его дело, или же не успевал сам договориться с местными присяжными поверенными на счет хождения по его делу. 148
Согласно п. 3 ст. 26 Закона об адвокатской деятельности (в ред. Федерального закона от 11 июля 2011 г. №200-ФЗ), а в настоящее время в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 20 Закона о бесплатной юридической помощи, право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Хотя назначение адвоката этой нормой не предусматривается, но нельзя и исключить такую возможность. При рассмотрении в судебном порядке самого вопроса о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа или в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в соответствии с п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 31.2 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ (в ред. от 14 июля 2022 г.) установлено обязательное участие адвокатов, а, следовательно, суд должен назначить несовершеннолетнему в качестве представителя адвоката, если у несовершеннолетнего его нет. Такие дела раньше рассматривались как судебные материалы по заявлению уполномоченных лиц, в настоящее время они рассматриваются путем обращения с административным исковым заявлением. 149 150
Оплата труда такого адвоката производится за счет средств федерального бюджета, тогда как оплата юридической помощи несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы, производится за счет средств субъекта РФ.
Еще до появления КАС РФ Верховый Суд РФ в Обзоре судебной практики в ответе на вопрос об источнике оплаты юридической помощи адвоката, оказываемой им бесплатно при рассмотрении судом материала о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, указал о возможности назначения адвоката несовершеннолетнему в порядке ст. 50 ГПК РФ. «Совершивший общественно опасное деяние или административное правонарушение несовершеннолетний, в отношении которого решается вопрос о помещении в ЦВСНП, не является субъектом уголовно-правовых отношений. Вопрос о его временной изоляции решается в порядке гражданского судопроизводства с участием адвоката, назначаемого судом на основании ст. 50 ГПК РФ, что в данном случае является процессуальной гарантией, обеспечиваемой государством». В обоснование этой позиции, сославшись на ст. 31.2 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ, Верховный Суд РФ пояснил: «В целях соблюдения прав детей, не достигших совершеннолетия, материалы о помещении их в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП) рассматриваются судом. Наряду с несовершеннолетним, его родителями или иными законными представителями, прокурором, представителями центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел, в судебной процедуре обязательно участвует адвокат». 151
За первое полугодие 2022 года в Панинском районном суде Воронежской области адвокаты назначались представителями ответчиков по 10 гражданским делам (о признании гражданина недееспособным (5), о взыскании кредитной задолженности (3), о лишении родительских прав (1), о возмещении вреда в порядке суброгации (1)) и по 1 административному делу о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, случаев назначения представителя лицу, имеющему право на бесплатную юридическую помощь не было.
Назначение судом представителя на основании ст. 50 ГПК РФ в случаях, установленных ст. 26 Закона об адвокатской деятельности, возможно, но они не относятся к исследуемому самостоятельному виду процессуального представительства по назначению суда. В данной работе они будут рассматриваться в ограниченном объеме в аспекте возможности применения ст. 50 ГПК РФ для реализации конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь в гражданском судопроизводстве.
В последнее время появилась тенденция лиц, обжалующих процессуальные акты в уголовном судопроизводстве, заявлять ходатайства о назначении им представителем адвоката в соответствии со ст. 50 ГПК РФ. Судебная практика находит такие ходатайства не подлежащими удовлетворению. Так, например, Верховный Суд РФ отклонил ходатайство заявителя, отбывающего пожизненное лишение свободы, о назначении ему адвоката в качестве представителя судом, поскольку закон, предусматривающий назначение адвоката по делам об оспаривании указов о помиловании, отсутствует. 152
В качестве вывода по данному разделу отметим следующее. Действующее законодательство позволяет суду на основании ст. 50 ГПК РФ (ст. 54 КАС РФ) назначить адвоката представителем в гражданском (административном) деле в следующих случаях:
– ответчику, место жительства которого неизвестно,
– дееспособному лицу, которому оказывалась психиатрическая помощь (по обжалованию действий медицинских работников, иных специалистов и органов, связанных с оказанием психиатрической помощи; для решения вопроса о принудительной госпитализации в психиатрический стационар; для решения вопроса о признании лица недееспособным),
законом – в случаях, установленных ст. 26 Закона об адвокатской деятельности, т. е. гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Таким образом, формулировка ст. 50 ГПК РФ, позволяет толковать рассматриваемую норму и в узком смысле, и в широком смысле.
В первых двух случаях представляемый лишен возможности самостоятельно заключать договор с представителем, либо такой договор может оказаться с пороком. Указанные лица не могут самостоятельно выбрать представителя, определить характер, объем и пределы его полномочий, и на себя эту обязанность берет государство. В последнем случае может и должна проявляться воля самого представляемого лица или его законного представителя, поэтому не имеется оснований для объединения этого третьего случая с первыми двумя. В связи с этим дальнейшее исследование строится с учетом выявленных двух случаев представительства по назначению суда.
Глава II. Представительство по назначению суда как самостоятельный вид судебного представительства
§1. Субъективные и объективные пределы представительства по назначению суда
В научных работах и статьях, посвященных судебному представительству, часто рассматриваются вопросы субъектного состава представительства, категорий гражданских дел и стадий процесса, где оно допустимо. Я. А. Розенберг использовал эти правовые явления для определения пределов процессуального представительства. Представляется интересным тезисно изложить эту концепцию и применить её в частном случае представительства по назначению суда.
По мнению Я. А. Розенберга, существуют субъективные и объективные пределы процессуального представительства, определяемые предпосылками (предварительными условиями) процессуального представительства. 153
Субъективные пределы процессуального представительства определяются кругом представляемых лиц и обуславливаются двумя предпосылками. Первой предпосылкой является обладание представляемым лицом статусом субъекта процессуального права. Вторая предпосылка – это допустимость наделения представителя полномочиями, что зависит от характера функции участника процесса, которая должна допускать действие через представителя, и от характера процессуальных прав и обязанностей, которые также должны допускать их осуществление представителем.
Объективные пределы процессуального представительства определены кругом гражданских дел и стадий, по которым допустимо представительство. Единственной предпосылкой здесь является природа субъективных материальных прав, являющихся предметом спора. По общему правилу представительство допустимо по всем делам и на всех стадиях процесса. Исключение из этого правила вызвано недопустимостью представительства в самих материальных правоотношениях. Однако это исключение не категорично, оно допускает процессуальное представительство, но только в форме правозаступничества, а также требует по таким делам личного участия представляемого (явка сторон здесь необходима для совершения распорядительных действий). Такова в общем виде концепция предпосылок и пределов процессуального представительства Я. А. Розенберга. Посмотрим, как эта концепция выглядит в представительстве по назначению.
Субъективные границы рассматриваемого нами частного случая представительства по назначению суда уже границ общего процессуального представительства. На названные Я. А. Розенбергом две предпосылки здесь существенно влияет дополнительная, выделяемая лишь для нашего частного случая, третья предпосылка – наличие особого состояния субъекта процессуального права, требуемого по закону, а именно: состояние неизвестности места нахождения участника процесса и возникшее у суда сомнение о состоянии психического здоровья участника процесса.
Как уже отмечалось, возможность назначения судом представителя при наличии такого юридического состояния лица как неизвестность его места нахождения предусмотрена законом только для ответчика. Ответчик, местонахождение которого неизвестно, не получает уведомления о начавшемся процессе и о своем положении в нем и поэтому не может реализовать свою процессуальную дееспособность, аналогично как и определить себе представителя. Складывается ситуация, в которой формально (поскольку лицо указано в иске ответчиком) лицо является участником процесса, но фактически оно не может участвовать в судопроизводстве.
Также уже отмечалось, что формально юридически дееспособное лицо, но страдающее психическим заболеванием, может оказаться без надлежащей защиты своих прав и интересов в гражданском судопроизводстве, только по той причине, что никто из уполномоченных на это лиц не инициировал процесс о признании его недееспособным. Достаточно сказать, что имеется большое число психически больных или страдающих слабоумием людей, которые получают психиатрическую помощь, следовательно, их психическое состояние известно обществу, однако недееспособными они не признаны, поскольку ни у кого из лиц (организаций), имеющих на это право, не возникло необходимости обратиться в суд с соответствующим заявлением. В этой ситуации лицо, страдающее психическим заболеванием, хотя и может присутствовать в процессе, но это присутствие, как лишенное сознательной деятельности, будет являться формальным. Такая, по сути формальная, дееспособность не позволяет лицу реально воспользоваться принадлежащими ему процессуальными правами.
Выявленная третья предпосылка субъективных пределов представительства по назначению суда влияет на предпосылку, требующую обладание представляемым статусом субъекта процессуального права. Лица, в отношении которых у суда возникло сомнение в их психическом здоровье, и, вследствие чего, суд должен назначить им представителя, могут иметь процессуальный статус истца, ответчика, (административного истца, административного ответчика), третьих лиц, заявителей и заинтересованных лиц по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений. Назначение судом представителя участнику процесса в случае неизвестности его места нахождения (жительства) возможно только, если этот участник процесса имеет статус ответчика.
Предпосылка субъективных пределов представительства по назначению суда, касающаяся допустимости наделения представителя полномочиями, имеет особенность, связанную с фактической невозможностью наделения представителя процессуальными полномочиями самими представляемыми. Участник процесса либо вообще не осуществляет свои процессуальные права и обязанности (в случае неизвестности места нахождения ответчика), либо существуют обоснованные сомнения в способности лица своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности (в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами). Представляемый в силу этих причин не может наделить представителя полномочиями и тем более оговорить их объем. В то же время и суд, назначая представителя, не уполномочен на определение характера и объема предоставляемых представителю процессуальных прав. Так же и закон не делает каких-либо пояснений и оговорок в отношении полномочий представителя по назначению суда. В связи с этим напрашивается один из двух выводов: либо законодатель считает достаточным набора общих процессуальных полномочий для представителя по назначению суда, либо такое положение – очередной пробел в праве. Второй вариант ответа, на наш взгляд, представляется более верным.
Общие для всех лиц, участвующих в деле, процессуальные права давали бы адвокату, действующему в процессе по назначению, достаточно возможностей для осуществления целей представительства. Однако сама специфика представительства в рассматриваемых случаях не позволяет воспользоваться ими реально в полной мере. Также возникает вопрос о возможности использования адвокатом специальных процессуальных полномочий представляемых лиц. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. говорится только о праве назначенного адвоката обжаловать решение суда в кассационном (апелляционном) порядке и в порядке надзора. Вариант устранения выявленного пробела в законодательстве предложен И. А. Табак. Понимая полномочия как «официально предоставленную (полученную) возможность судебного представителя совершать определенные процессуальные действия от имени и в интересах другого лица», она отличает полномочия представителя в суде от его самостоятельных прав и обязанностей. Указывая, что полномочия представителю, назначенному в соответствии со ст. 50 ГПК РФ, предоставляет суд, и, полагая, что «такое процессуальное действие, как обжалование судебного постановления является процессуальным правом представителя по назначению суда», И. А. Табак предлагает «исключить из числа специальных полномочий судебного представителя по назначению суда обжалование судебного постановления…». 154 155 156
Законодатель пошел по другому пути. Федеральный закон от 5 мая 2014 года №93-ФЗ «О внесении изменения в статью 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» дополнил ст. 50 ГПК РФ нормой, согласно которой адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика, вправе обжаловать судебные постановления по данному делу. 157
Рассмотренные предпосылки субъективных пределов представительства по назначению суда позволяют создать правовую конструкцию, обосновывающую необходимость представительства по назначению суда. Физические лица, местонахождение которых неизвестно, и лица, дееспособность которых у суда вызывает сомнение, являются субъектами гражданского процесса, т.е. могут иметь своих представителей, но при этом не имеют возможности передать свои процессуальные права представителю и определить объем его полномочий. Право назначить представителя указанным лицам законодатель передает суду. Суду, однако, не предоставляется право определения объема полномочий представителей.
На наш взгляд, распространение такой правовой конструкции может потребоваться и для лиц, местонахождение которых неизвестно, но имеющих статус истца и третьего лица. Как уже отмечалось, все участвующие в деле лица могут вести свои дела через представителей. В отношении представительства по назначению законодатель называет только ответчика при условии, что его место жительства неизвестно. Однако, анализируя иные статьи процессуального закона (ст. 45, ст. 46, ч. 2, 3 ст. 38, ч. 3 ст. 40, ст. 41, ст. 43, ст. 44, п. 7 ст. 222 ГПК РФ), можно прийти к выводу, что представитель мог бы назначаться и лицу, обладающему иным процессуальным статусом, поскольку место нахождения истца и третьего лица также может быть или стать неизвестным.
Истец выступает в качестве активной стороны в гражданском судопроизводстве, так как именно он возбуждает дело с целью защиты своих прав и охраняемых законом интересов. Но понятия истца и лица, возбуждающего дело, не всегда полностью совпадают. Они не во всех случаях тождественны. В гражданском судопроизводстве допускается возбуждение гражданского дела в интересах других лиц прокурором (ст. 45 ГПК РФ), а также органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями или гражданами (ст. 46 ГПК РФ). Согласно ч. 2 ст. 38 ГПК РФ, лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.
Отказ прокурора, органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации или другого лица, обратившихся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, от поданного заявления не влечет за собой правовых последствий, связанных с отказом истца от исковых требований. Рассмотрение дела продолжается, если лицо, в интересах которого подано заявление, или его представитель не заявит об отказе от иска, который будет принят судом в общем порядке. «Прокурор обладает только процессуальным интересом. Носителями материального интереса остаются те граждане и иные субъекты материальных прав, в защиту которых выступил прокурор. Они остаются материальными истцами». Таким образом, по действующему законодательству для продолжения процесса истцу нет необходимости заявлять требование о рассмотрении дела по существу. 158