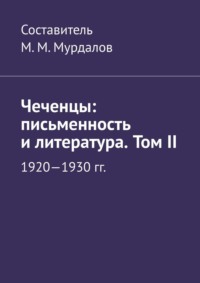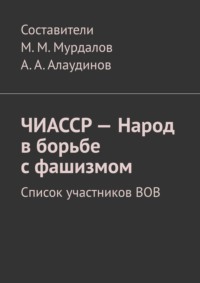Полная версия
Шамиль – имам Чечни и Дагестана. Часть 2
Все эти подробности о диких пчелах не должны служить поводом к предположению о равнодушии горцев к пчеловодству: оно существует, хотя и не в той степени развития, как это можно было бы желать, судя по превосходному качеству меда, добываемого Дагестанскими пчеловодами. Лучшим медом в целом крае считается Унцукульский. Между разными сортами его, есть такой белый, что «почти невозможно отличить его от тарелки, на которой он лежит». Другое его свойство твердость: увеличиваясь с течением времени, она доводит мед до такого состояния, что «много ложек нужно сломать прежде нежели возьмешь одну ложку меда».
По словам Шамиля, Унцукульский мед самый лучший на Кавказе; а благоприятные условия, в которых находится вся страна теперь, весьма могут способствовать дальнейшему развитию этой отрасли сельского хозяйства.
28-го декабря. Вчера Шамиль подвергся болезненному припадку, о котором в подробности было изложено в дневнике за январь месяц.
Сегодня он оправился совершенно, и разговаривая со мной об этом предмете, дополнил прежние объяснения следующими подробностями.
Болезнь его называется «зульмат». Слово это Арабское, и значит «темнота», «потемнение». Под этим именем она известна всему мусульманскому миру. Есть у нее еще и другое название «кассават», но оно малоизвестно.
Человек, подверженный этому недугу, есть избранник Божий. Так написано в книгах. Каждый из проповедников Тарриката бывает одержим этой болезнью непременно. Она представляет собой символ его духовной силы, или вернее, вывеску его профессии.
Из числа бывших приверженцев Шамиля, проживающих на Кавказе в настоящее время, болезнью «зульмат» одержимы многие, но не в равной степени; так напр.: способность видеть, во время обморока, отсутствующих лиц, принадлежит только Шамилю и тестю его Джемаль-Эддину. Прозорливость же других ограничивается предчувствеим чего-либо особенного, или просто, посещения людей, которых однако они не видят, а потому и имен их не могут знать так, как может это Шамиль. Такого рода прозорливостью, но в более высокой степени, обладают следующие лица: Нур-Магомет из Инху (Инху-су-Магома), Кор-Эфенди из сел. Гуй (на карте Гуйль) в Казикумухе, Абдуррахман-Хаджио из Сугратля (тот самый, о котором в книге г. Вердеревского «Пленницы Шамиля» сказано, что по зову Шамиля он являлся в Ведень для разрешения известных вопросов путем религиозным), и наконец, Курали-Магома из Чиркея. Все они проповедывали Таррикат прежде, а стало быть, весьма к тому способны и теперь, так что, судя по описанию личностей этих святошь, сделанному Шамилем и сыном его Газы-Магометом, нельзя не придти к заключению, что учреждение над ними секретного надзора было бы не лишним, за исключением впрочем Джемаль-Эддина, который по крайней трусости, едва ли способен к проявлению своего, Богом данного, таланта.
Кроме «зульмат», есть еще и другая религиозная болезнь: «гышкулла», в буквальном переводе – «любовь к Богу». Болезнь эта может составлять принадлежность всякого, кто только «любит» Бога; и чем сильнее эта любовь, тем глубже пускает свои корни болезнь; или другими словами: чем чаще устремляет человек свои мысли к Богу, чем чаще предается он молитве и чтению духовных книг, тем сильнее и продолжительнее бывают пароксизмы.
Наступление их обыкновенно случается в то время, когда молящийся, окончив чтение книг, начинает призывать имя Божье, что продолжается по несколько часов без отдыха. Возвышая постепенно свой голос и устремляя мысли свои в места горные, – «больной» отрешается непоследок от всего земного, или по словам самого Шамиля, «зачитывается», и с диким воплем «аллах!» падает в обморок. Бывали примеры, когда обморок оканчивался смертью, что и случилось с Хаджи-Абдуллой из Ширвани, который умер, произнеся последнее слово любви.
Люди, одержимые болезнью «гышкулла», не имеют той прозорливости, которой одарены зульматики; но в замен того, некоторые из них, конечно более любимые Богом, имеют способности видеть в продолжение своего обморока рай, ад и все подробности загробной жизни, а также пророков и ангелов, посылаемых Верховным существом для беседы с ними, и даже самого Бога. Этой самой болезнью в высокой степени одержим пророк Магомет, написавший весь Коран именно под влиянием видений, сопровождавших пароксизмы его болезни. Что касается Дагестана, то в нем спокон веков был один только благочестивый человек, который неоднократно удостаивался лицезреть все эти чудеса, именно вышеназванный Ширвани-Хаджи-Абдулла. Шамиль, которому передавал он все виденное в подробности, приходил от его рассказов в благоговейный ужас, и серьезно ему советовал, а в последствии запретил положительно рассказывать об этом кому-либо из живых людей, на том основании, что если Богу угодно делать подобные откровения одним лишь избранным, то ясно, что он не желает сделать этого в отношении других людей; а потому и следует сохранить все это в строгой тайне, иначе Бог непременно убьет ослушника. Но Хаджи-Абдулла, не слушая доброго совета, продолжал рассказывать народу о своих похождениях в загробном мире, – и предсказание Шамиля скоро оправдалось.
Однажды, когда упражнялся опять он в чтении книг, а потом, войдя в экстаз, начал призывать имя Божье, – несколько человек, мало доверявших его рассказам, заперли снаружи дверь его комнаты, и раньше того заколотили окна. Преградив таким образом выход, люди эти остановились неподалеку сакли подвижника, желая узнать что из этого выйдет. Они дожидались очень долго, потому что Хажди-Абдулла, не зная этой проказы, спокойно продолжал свое дело, и уже по окончании обморока появился вдруг вне дома, к особенному ужасу людей, которые заперли его.
Вы думаете, что можете сделать что-нибудь против Бога, говорил он им: вы ошибаетесь: вот вы заперли меня, воображая, что без вашей помощи я не выйду; а между тем Бог послал своего ангела выпустить меня через окно, и вот теперь я между вами… Верите ли после того, что я нахожусь под особенным покровительством пророка?…
Окно действительно было отворено, и потому не уверовать было нельзя. Но Хаджи-Абдулла уж слишком увлекся своим торжеством: желая подействовать не обращенных еще сильнее, он рассказал им все, чему только сейчас был свидетелем; и тогда то сбылось предсказание Шамиля: через день после этого, предавшись по обыкновению душеспасительному своему занятию, Хаджи-Абдулла очутился, вместо обморока, в объятиях смерти.
Выслушав эту легенду, я увидел возможность снова заняться исследованием болезни Шамиля, в которой при прошлогодней попытке осталось неразъясненным одно обстоятельство, именно: что он чувствует, или какие видения представляются ему во время обморока? Почти все сочинения, в которых разбирается личность Шамиля, и даже изустные о нем сведения, упоминали о том, что в известных случаях он предавался этому обмороку преднамеренно, а по окончании его объявлялось кому следовало, что пророк или посланник Божий приказал ему принять ту или другую меру, конечно соответствующую его видам.
Округлив должным образом фразу своего вопроса, я предложил его Шамилю. В ответе своем Шамиль снова повторил то, что говорил о своей болезни в первый раз; и потом убедительно доказывал, что все слухи о сношениях его с нездешним миром суть не что иное, как вздор, выдуманный даже не врагами его, хорошо его знавшими, а людьми, не имевшими никакого понятия об условиях его жизни и составлявшими по немногим отрывочным сведениям полную историю его политических и административных действий, дополняя посредством своего воображения то, чего им недоставало. При этом, он указывает на оставшихся в покоренном крае врагов своих, как на людей, которые, не взирая на взаимные их отношения, наверное не подтвердят того, что сам он признает нелепым.
И в самом деле, если принять в соображение, что все сведения о Шамиле и о делах немирного края составлялись до сих пор только на основании показаний отдельных личностей, не имевших права на авторитет и по своему невежеству вообще и по не знанию подробностей дела, часто происходившего в соседней деревне, а наконец и по неприязненным отношениям их к предводителю горцев, а иногда и ко всей стране, – то нельзя не признать в словах Шамиля хоть некоторой основательности. Таким образом, и в самой истории истребления Аварских ханов, составленной с крайнею добросовестностью, нельзя не заподозрить некоторых неверностей; во-первых потому, что автор ее ничего на себя не принимает и тем показывает, что источники, из которых, из которых он почерпнул сообщенные им сведения, не пользуются безусловной его доверностью; а во-вторых потому, что история эта написана со слов «одного Аварца», и именно, казначея Гамзат-бека, Маклача, который захватив казну, бывшую при Имаме в Хунзахе, скрылся и от Хунзахцев и от мюридов, которым он должен был передать вверенные его хранению деньги.
30-го декабря. В сегодняшнем разговоре с Шамилем, речь коснулась известного Кавказского проповедника Шеэх-Мансура. Шамиль передал мне о нем некоторые подробности, из которых между прочим явствует, как легковерны горцы и какие преувеличенные понятия о России, о Русских и вообще о вещах, не входивших в тесную сферу их жизни, получают они от своих соотечественников, побывавших в России, особливо если посещение их продолжалось короткое время. Также легко воспринимал и также твердо верил подобным вздорам и Шамиль, не смотря на большой запас ума и рассудительности, которыми он одарен от природы. Прочем, теперь он говорит, и как кажется довольно логично, что если бы горцы и он сам имели бы возможность входить в близкое соприкосновение с нами в прежнее время, то многого не было бы из того, что теперь обратилось в исторические факты. Он даже уверен, что если и в последующее время полудикие жители гор и лесов будут посещать Россию, то, ознакомившись с Русским народом и с Русской жизнью, они уже не поддадутся ни на какие красноречивые убеждения о пользе и необходимости истреблять христиан посредством газавата, или каким другим способом.
Излагаемые ниже подробности переданы Шамилю людьми, хорошо знавшими Шейх-Мансура; сам же он лично не мог его знать потому, что родился спустя 13 лет после его смерти. Некоторые из этих людей были действующими лицами в эпизоде, составляющем первую часть рассказа Шамиля.
Шейх-Мансур не был «ученым»; по словам Шамиля, он даже вовсе не знал грамоты; но в замен того он владел необыкновенным даром слова, который, при его мужественной, увлекательной наружности, имел неотразимое влияние на горцев, симпатизирующих всему, что резко бросается в глаза, или поражает слух.
Настоящее имя этого проповедника Ушурман; а том, которое сделало его известным на Кавказе, было не что иное, как прозвище, данное в честь его заслуг и достоинств: «Мансур» значит «счастливый в своих делах», «любимый Богом».
В период окончания первых волнений в Чечне, произведенных Шейх-Мансуром, старшины Чеченских обществ, изъявивших покорность России, были вызваны, как гласит предание, по повелению Императрицы Екатерины II в Петербург. Во время представления их ко двору, Императрица, между прочим, спросила их, не знают ли они, кто такой Шейх-Мансур?
Депутаты отвечали утвердительно и описали своего бывшего предводителя в самых черных красках, и притом как человека ничтожного.
В таком роде говорили все депутаты, за исключением одного, от сел. Брагуны, по имени Кучука, который в продолжении всего разговора о Шейх-Мансуре упорно молчал и только с некоторой иронией взглядывал по временам на своих товарищей. Императрица заметила это и тотчас же обратилась к нему с вопросом, почему он ничего не говорит?
Кучук отвечал, что в присутствии великих людей он считает своей обязанностью молчать в то время, когда говорят другие, старшие; но что если Государыне угодно, так он будет говорить. Получив это приказание, Кучук предварительно спросил: как Императрица прикажет ему говорить: правду, или только красные слова? Получив снова приказание говорить одну лишь правду, – Кучук рассказал о Шейх-Мансуре совершенно противное тому, что говорили прочие депутаты; он выставил его как человека, одаренного от природы всевозможными достоинствами, моральными и физическими, в числе которых заслуживающим особенного внимания ему казался рост Шейх-Мансура: «он был так высок, что в толпе стоящих людей казался сидящим верхом на лошади».
Услышав такое описание, Императица стала вдруг с своего места и в этом положении дослушала остальные слова Кучука. Потом, на вопрос – для чего она это сделала, – отвечала, что слыша о человеке, в котором заключается так много великих достоинств, она должна думать, что Бог недаром полюбил его и что обстоятельство это служит по Ее мнению, верным признаком существования в таком человеке множества качеств душевных и умственных; а потому-то Она и встала, чтобы этим самым выразить свое уважение к столь достойному человеку, «любимцу Бога».
Дальнейшее повествование Шамиля касается смерти Шейх-Мансура: он кончил свое земное поприще в Анапе. Шамиль слышал, что Русские, взяв его в плен, заключили его в бочку, набитую гвоздями, и скатили таким манером со скалы в море. Эту самую участь предсказывали Шамилю его приближенные в том случае, если б он вздумал отдаться нам живым. Это самое, по откровенному сознанию Шамиля, и было причиной его долговременного упорства, побежденного, наконец, сыном его Гази-Магометом.
На вопрос мой, верит ли он и теперь, чтобы Русские сделали с Шейх-Мансуром то, о чем он слышал, – Шамиль отвечал, что если бы ему говорили об этом обстоятельстве, как о свершившемся в настоящее время, то он ни за что бы не поверил, но получив о нем в прежнем времени, в горах, самое сбивчивое и неблагоприятное понятие, он не может разрешить этого вопроса удовлетворительным образом.
Тогда я рассказал ему вкратце историю пунических войн и в подробности эпизод о Регуле. Шамиль не замедлил отыскать в судьбе этого полководца большое сходство с судьбою Шейх-Мансура и тотчас же согласился, что слышанный им в горах рассказ о смерти последнего есть не что иное, как компиляция того, о чем я ему только что передал.
В заключение он сознался в легковерии своем еще по другому случаю: именно в отношении Аьдель-Кадера. Находясь в горах, Шамиль вполне был уверен, что бывший предводитель Кабилов вел войну не с Французами, а с Русскими, и что взятый этими последними в плен, он был обращен в нищего, и скитается внутри России без всяких средств к существованию, испрашивая милостыню.
В неосновательности этого, Шамиль убедился только со взятием в плен его самого. Однако, в оправдание свое он привел тот факт, что при известной замкнутости в жизни горцев, легковерие их иначе и не может проявляться, как в размерах чудовищных.
31-го декабря. Сегодня Шамиль сообщил мне подробности еще одного своего низама.
Низам 7-й, о лошадях и рогатом скоте. Между множеством темных сторон, составляющих характеристику горцев, страсть к ябеде и к тяжбам, о которой Шамиль неоднократно упоминал в разговорах со мной, конечно следует поставить на первом плане. Но нигде и ни в чем она так части не проявлялась, как в сделках, имеющих предметом покупку, продажу, или мену домашнего скота: и то, и другое, и третье совершалось беспрестанно. Не надо думать, чтобы все это делалось вследствие необходимости или из особенной склонности населения к промышленности и торговле; такое предположение будет не верно; а просто одурелые от праздности торговцы чувствовали потребность хотя бы чем-нибудь наполнить свое время. Тем не менее, бездельные эти занятия возбуждали множество споров и ссор, не редко сопровождавшихся убийством, которое впоследствии обращалось в нескончаемое канлы.
Главной причиной всего этого есть страсть к стяжанию, которая, по словам Шамиля, заключается в крови горцев и составляет основание их характера. Получив иное направление, страсть эта привела бы к блестящим результатам; но при условиях, в которых находилась страна до покорения ее, —
она обратилась в открытый грабеж против чужих и в мелкое воровство и мошенничество против своих; наиболее важная статья богатства горцев – домашний скот представлял собой цель, к которой устремлялись действия, считавшиеся неблаговидными только в мнении Шамиля, да еще самого незначительного меньшинства населения.
Действия эти имели два вида. Во-первых, бедняк-горец, страдая в неурожайное время от голода, ведет лишнюю свою скотину к запасливому соседу-односельцу, а чаще в соседний аул, и променивает ее на несколько гарнцев пшеницы или кукурузы. Поправив свое хозяйство через несколько месяцев, а иногда и через несколько лет, продавец является к покупщику и, возвращая ему то самое количество хлеба, которое взял у него, требует возврат своего животного со всей прибылью, полученной от него новым хозяином. Тот конечно не соглашается исполнить этого требования, и вот заявляется спор и тяжба, или ссора и убийство. Для прекращения этого, Шамиль постановил, чтобы промененная таким образом скотина оставалась бы собственностью нового хозяина. Прежнего же лишить права предъявлять какую-либо претензию.
В этих случаях требование продавца имело иногда в своем основании единственно недостаток соображения: ему казалось, что он не продал или променял свою скотину безвозвратно, а только под залог ее взял нужное количество хлеба. Процентом же на выданный капитал и вместе с тем вознаграждением за потравленный скотиной корм должна была, по его мнению, служить работа, в которой скотина находилась это время. Впрочем, случаи подобного недоразумения встречались редко, большей же частью несправедливое это требование было основано на умысле воспользоваться опасением противника возбудить ссору, или нежеланием его заводить тяжбу. Но вот другой вид этого дела, который не оставляет уже ни малейшего сомнения относительно настоящего своего смысла.
Неблаговидная цель в этом случае заключалась в том, чтобы, продав скотину исхудалую, или с недостатками, за самую ничтожную цену, возвратить ее себе за те же деньги впоследствии, когда она поправится и будет стоить во много раз дороже первоначальной цены. Начало этого зла содержится в Шариате, дозволяющем возврат скотины не иначе, как за прежнюю ее цену. Без всякого сомнения, в основании этого закона лежала идея о склонности к воровству людей, для которых он был писан: спорная скотина могла быть украдена у первого ее хозяина и достаться последнему, перейдя через несколько рук. Высказывая эту идею, пророк имел также в виду и бедность большинства своих последователей, при которой возврат скотины к прежнему хозяину нередко бывает делом крайней необходимости. И действительно, мера эта вполне соответствовала бы потребностям, хотя бы например Дагестанских горцев, если бы Шариат обусловил разрешенную им сделку сроком, до истечения которого она может быть допущена. Однако обстоятельство это, подобно многим другим, ускользнуло от дальновидности законодателя и таким образом для недобросовестных людей открылось обширное поприще, где надежную для себя опору они находили в самом законе. Но так как задача эта, столь дурно разрешенная пророком, разрешается более удовлетворительным образом посредством здравого смысла, которого так много у горцев, то надежды продавца худой скотины должны были разбиваться о показании всегдашних свидетелей всякой сделки, соседей, которые ясно доказали бы ему, что хотя спорная скотина и действительно принадлежит ему, но что поступила она во владение последнего хозяина совсем не в том виде, в каком находится теперь. И потому, в устранение неприятности встретит подобный отпор, известного сорта люди поступали следующим образом.
Дождавшись времени, когда исхудалая скотина поправится, а больная выздоровеет, они посылали к хозяину ее людей, разделяющих их вгляд на чужую собственность. Один из них объявляет, что такая то скотина принадлежит ему и что с давних пор она была у него украдена; в чем и представляет нужное нужное число свидетелей.
Против этих доводов возражения не могло быть: согласно правил Шариата, скотина выдавалась за первоначальную цену, и плутовство увенчивалось успехом к ущербу честных людей.
Почти тоже самое происходило в тех случаях, когда у купленной или выменянной скотины, преимущественно у лошади, оказывался какой-нибудь порок. Одним из правил Шариата продажа такой скотины положительно разрешается, под опасением определенного тем же правилом строгого наказания (конечно в том случае, если порок будет скрыт от покупщика), но больше об этом ничего там не сказано и покупщики, не имея в виду закона, определяющего для подобных претензий срок, предъявляют их спустя несколько месяцев и даже целый год по совершении сделки. Можно себе представить какие споры и ссоры возбуждает небольшое упущение, сделанное законодателем.
Эти самые недостатки пополнил Шамиль своим Низамом: он определил срок для предъявления прошений на проданную, купленную или выменянную скотину, именно три дня; по истечении этого времени, претендатели теряли всякое право на спорный предмет, или могли приобрести его за новую цену, по взаимному соглашению с последним владельцем скотины.
По словам Шамиля, обе принятые им меры оказались столько же действительными, как и другие, о которых было изложено в предыдущих дневниках.
Впрочем, Низам этот установлен им не столько для Дагестанских торговцев, сколько для горных Чеченцев (Шатоевцев, Татбуртинцев, Ичкеринцев, Андийцев и др.); при этом он высказал общий взгляд свой на племена, признававшие его власть. Выше всех, по его мнению, стоят Чеченцы, живущие в лесах, расположенных на плоскости: для них он даже и Низам не устанавливал, за исключением одного брачного. За Чеченцами идут Дагестанцы, а хуже всех горные Чеченцы.
Оканчивая подробности своего Низама, Шамиль выразил убеждение в необходимости оставить этот Низам во всей его силе и в настоящее время, потому что, зная хорошо горцев, он твердо уверен в неизбежности споров о скотине, которые, по случаю недействительности его Низама, не замедлят принять обширные размеры, что конечно введет начальство в большие хлопоты.
Объяснив подробности Низама №7, Шамиль дополнил брачный и бракоразводный Низамы двумя обстоятельствами, о которых он позабыл сообщить мне в свое время.
В отношении брака, новый Низам был вызван действиями родителей невесты, которые, по разным более или менее уважительными причинам, позволяли себе отказывать женихам, уже объявленным. Такие случаи встречались весьма часто и точно также, как и всякий спор или малейшее несогласие, возбуждали между горцами ссоры, иногда весьма кровавые.
Кроме необходимости прекратить это зло, Шамиль, считавший увеличение народонаселения делом первой важности, не хотел откладывать его ни на одну лишнюю минуту и на этом основании парализировал право или произвол родителей законом, предписывавшим выдавать девушек замуж, не смотря ни на какие препятствия, если только предложение жениха однажды не было принято. Ослушников ожидала яма, в которой они содержались до тех пор, пока девушка не выходила замуж.
Что касается отказа со стороны жениха, то предоставленное ему Шариатом право делать это безнаказано, Шамиль оставил без всякого изменения. В бракоразводном своем Низаме, Шамиль снова вооружается против плутовского своевольства мужей.
Одно из правил Шариата гласит: «если разводимая жена не тронута была мужем на брачном ложе, то она должна получить только половину условного калыма».
Опираясь на этот закон, горцы пользовались естественной стыдливостью своих подруг, чтобы только иметь возможность оставить у себя половину калыма; свидетельствование же, допускаемое у нас по жалобам о растлении девиц, у горцев не допускается, и таким образом стесненные со всех сторон бедные женщины по неволе должны были отказываться от права на единственное свое достояние. Случалось однако, что попытки мужей не обходились без протеста: между прочим и Шамилю приходилось иногда разбирать подобные жалобы. Одна из них поразила его своей несообразностью: претензию на половину калыма объявлял горец, проживший со своей женой восемь лет, но не имевший от нее детей. Выведенная из терпения бесстыдством мужа, жена обратилась с жалобой к самому Шамилю. Соображаясь с здравым рассудком, Шамиль решил это дело в пользу женщины и даже определил особое взыскание с ее мужа за ложное показание. Но вместе с тем обстоятельство это окончательно утвердило его в мысли о некоторых несовершенствах Шариата и он решился пополнить замеченный пробел по собственному усмотрению. Установленный им Низам имел следующий текст: «муж, пробывший наедине со своей женой несколько минут, обязан выдать ей при разводе весь калым сполна по условию».
В то самое время, когда предводитель горцев издавал этот закон (в 1840 или 41 году), Чеченские старшины от имени своего народа настойчиво требовали скрепления союза его с Чечней более крепкими узами и именно посредством брачного родства с какой либо из Чеченских фамилий. Требование это Шамиль признавал основательным, но призвания к браку с Чеченкою не имел. А потому, чтобы только успокоить Чеченцев, он женился на красавице Зейнабе, дочери натурализовавшегося Казикумука Абдулы. Но следуя своей склонности, Шамиль развелся с Зейнаб тотчас же по совершении обряда и выдачи калыма, не допустив молодую жену остаться с собой без свидетелей ни на одну минуту.