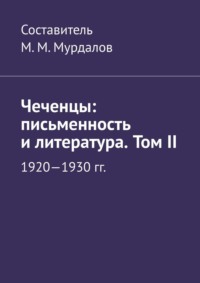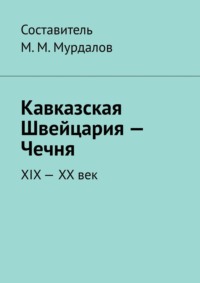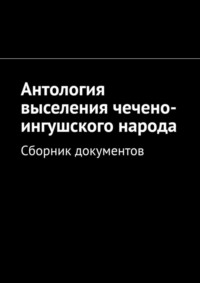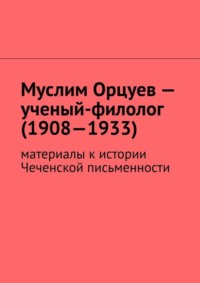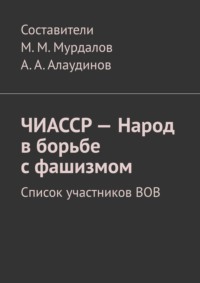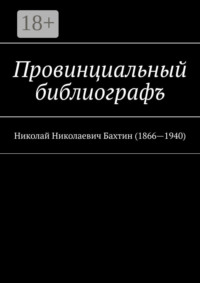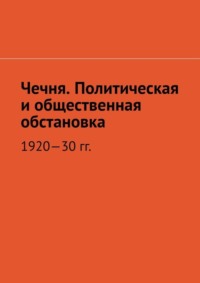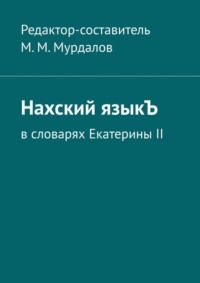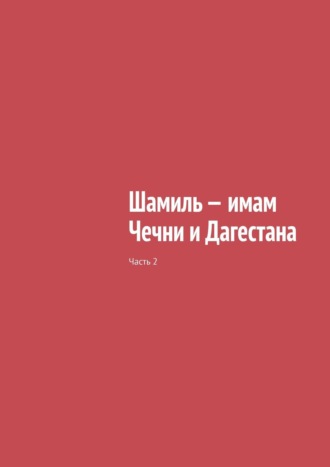
Полная версия
Шамиль – имам Чечни и Дагестана. Часть 2
Есть и другая причина, заставившая Шамиля принять этот труд на себя: зная, что многое их того, что между нами происходит, я описываю в газетах, – он опасается, чтобы не вкрались какие-нибудь ошибки в описании Низама, который, по его убеждению, в глазах света должен дать ему репутацию администратора.
Получив от меня полное согласие на объяснение Низамов в какое ему будет угодно время и в том порядке, какой придет ему в голову, – Шамиль передал мне, для первого раза, подробности Низама о наказании преступлений денежными штрафами, которые до тех пор в горах совсем не были известны. Но прежде этого, он счел нужным предупредить, что идея Низама и сущность каждой статьи его принадлежат одному ему, без всякого участия в создании их со стороны какого-либо другого лица, и только каждую свою мысль, предварительно обращения ее в статью Низама, он передавал на рассмотрение членов своего верховного совета (Дивана), которые были обязаны сообразить – не будет ли она в чем-нибудь противоречить основным правилам Корана. Без всякого сомнения противоречий никогда никаких не встречалось.
После этого вступления, Шамиль обратился к своему Низаму. До совершенного окончания изложения этого предмета, я буду придерживаться того порядка, в каком идет рассказ Шамиля.
(Примечание МММ): «Кодекс Шамиля». Отпечатано в Санкт-Петербурге 1862 году. 54 страницы.
Низам 1. Денежный штраф. Денежный штраф учрежден Шамилем лет восемь тому назад, именно – за три года до возвращения в горы сына его Джемаль-Эддина. Денежный штраф обыкновенно сопровождался тюремным заключением и рассчитывался не днями, а ночами, полагая за каждую ночь, проведенную в тюрьме, т.е. в яме, по 20 к.с.
Денежные штрафы определялись Наибами, в распоряжении которых находились и суммы, составлявшиеся из денежных штрафов; хранились же они отнюдь не у Наибов, а у особых казначеев, избиравшихся из числа людей, известных целому обществу своею честностью.
Штрафные деньги расходовались по указаниям Наибов, которые были обязаны употреблять их на вспомоществование бедным (в особенности же, на вооружение способных к войне, но недостаточных людей), и на уплату за труд и время своим рассыльным, не мюридам, а местным жителям, посылаемым в разные места с разными поручениями и вообще для передачи разного рода сведений. В пользу же Наиба, штрафные деньги не поступали.
Расход этих денег производился казначеем по надлежащему удостоверению в необходимости издержки, предложенной Наибом. Денежному штрафу подвергались одни мужчины; женщины, как не имеющие своей собственности, от штрафа освобождались.
Денежный штраф был определен Шамилем для трех видов преступления:
1).за воровство,
2) за уклонение от военной повинности, и
3) за умышленное прикосновение мужчины к женщине.
Случалось, что денежные штрафы налагались и в других случаях; но это было не что иное, как произвол Наибов, обращавших эти деньги в свою собственность, но рисковавших вместе с тем поплатиться за свое корыстолюбие местом, а подчас и головою.
1) Воровство. Денежный штраф за воровство введен Шамилем с той целью, чтобы избежать необходимости подвергать виновных наказаниям по правилам Шариата, определявшим их в следующей постепенности: за воровство в первый раз (без различия ценности украденного) – отсечение правой руки; во второй раз – левой; в третий – правой ноги; в четвертый – левой, и в пятый раз – отсечение головы.
Хорошо знакомые Шамилю наклонности горцев внушали ему серьезное опасение, что если он станет придерживаться в отношении воровства точного смысла постановлений Шариата, – то население страны в самом непродолжительном времени значительно уменьшится, или, по меньшей мере, на половину будет состоять из калек. В основательности этого опасения можно удостовериться еще и теперь, побывавши в Анди и Гидатле, где из 3-х чел. один, наверное, без руки.
Стр. 1460 …Вследствие строгости Шариата, Шамиль в своем Низаме вместо того определил: подвергать виновного в воровстве, как за первый, так и за второй раз, трехмесячному заключению в яму, с взысканием по 20-ти к.с. за каждую ночь заключения. За третий же раз следовала смертная казнь.
Исправительная мера, выражением которой служило двукратное заключение, распространялось только на тех преступников, доброе поведение которых в прежнее время удостоверялось их обществами. В случае же неодобрительного отзыва, виновный подвергался смертной казни за первое же воровство.
Нередко случалось, что по родственным связям, или из корыстолюбивых видов, Наибы отдаляли смертную казнь до четвертого раза, или же просто доставляли преступникам возможность скрыться от действия правосудия. Но подобное уклонение от действующих законов, проявлявшееся впрочем, в немирном крае сплошь и рядом, не может служить обвинением для Шамиля, который со своей стороны вполне убежден в действительности своего Низама для исправления такого народа, как горцы. Он даже убежден, что существовавшие в продолжение последних 25-ти лет в горах постановления много облегчат предстоящий нам труд и что если бы Русские взяли в свое управление немирный край тотчас после Гази-Магомета или Гамзат-бека, – то, наверное, им не пришлось бы так легко справиться с горцами, как это можно сделать теперь.
2) Уклонение от службы. Налагая денежный штраф на людей, уклонявшихся от похода, или вообще от воинской повинности, Шамиль принял во внимание пословицу, составившуюся в последние десять лет существования Имамата: «лучше просидеть год в яме, чем пробыть месяц в походе». Пословица вылилась из уст народа под влиянием усталости и изнурения, порожденных войною, которая, по словам самого Шамиля, в последнее время опротивела большинству населения.
В прежнее время, до издания Низама, тюремное заключение весьма мало страшило горца: оно не расстраивало его домашних дел, лежавших обыкновенно на плечах жены. А иногда дела шли без него даже лучше, нежели при нем. Не совсем свежий воздух ямы тоже не составлял для него особенной неприятности потому, что в некоторых обществах, где домашние животные проводят зиму в одном помещении со своими хозяевами, – атмосфера этого помещения с атмосферою ямы была совершенно одинакова. Наконец, если для некоторых преступных личностей тюремное заключение и составляло действительную неприятность, то она с лихвою вознаграждалась праздностью, склонность к которой привита и развита в горцах тою же войною.
Именно так понимал Шамиль взгляд горцев на тюремное заключение и на упомянутую пословицу. Чтобы изменить, и притом без кровопролития порядок вещей, порожденный такими понятиями, Шамиль прибавил к тюремному заключению еще и денежную пеню, определив размеры этого наказания, как он думает, весьма справедливо: виновные в уклонении от службы подвергались аресту и штрафу в положение стольких дней, сколько находились в отсутствии их товарищи, назначенные в ту же командировку, в которую назначались они. Мера эта оказалась вполне действительною, и не только заботливые о своем хозяйстве люди бросили лень или упрямство и шли в назначенные им места беспрекословно. Даже сами жены горцев, в ограждение своего хозяйства от неминуемого разорения, а уж, по меньшей мере, расстройства, – старались всеми силами убедить своих трусливых или упрямых мужей идти в поход; а иногда, указывали даже тайком места, где они скрывались.
3) Прикосновение к женщине. Прикосновение мужчины к телу и даже к платью женщины, по понятиям горцев, составляет для нее полное бесчестие; этим пользовались в прежнее время многие негодяи из желания отомстить на женщине или девушке неудачу своего волокитства; а иногда делали это из каких-либо иных побуждений. Во всяком случае, прямым последствием прикосновения было Канлы, и это встречалось прежде так часто, что Шамиль, говоря о Канлы за бесчестье женщины, назвал его нескончаемым Канлы.
Низам, определивший денежный штраф при тюремном заключении за прикосновение к женщине, порядком расхолодил блудливых байгушей. И вместе с тем до некоторой степени оградил женщину от многих ужасов ее беспомощного положения: виновные подвергались заключению в тюрьму и штрафу на три месяца за первый раз; на четыре или на пять за второй, и смертной казни за третий раз.
Низам 2. О наследстве. Оставшееся после умерших горцев имущество всегда вызывало бесчисленное множество споров между наследниками. Непосредственным к тому поводов было множество. Сложность и запутанность родственных связей, порождая нескончаемые тяжбы, затрудняли начальство, замедляли ход дела и ни мало не удовлетворяли тяжущихся. Все эти затруднения в особенности усиливались от Адата, к которому горцы нередко прибегали с общего согласия истца, ответчика и самого судьи; но потом, сторона, недовольная решением Адата, требовала обсуждения дела по Шариату. Наконец, новые наследники, появляясь разновременно неизвестно откуда и предъявляя свои права на имущество покойника, требовали обсуждения дела вновь. Через это дело затягивалось и запутывалось, что и заставило Шамиля принять к устранению сего радикальные меры.
Несмотря на то, что по делам по наследству для административной деятельности Шамиля предстояло обширное поле, он не ввел однако ни одного Низама. Тем не менее, он считает Низамом то свое распоряжение, которое навсегда отвратило горцев от Адата, и заставило их неуклонно следовать постановлениям Шариата, в котором положение и права наследников изложены в совершенной подробности на каждый случай. Дело здесь заключалось в том, что Дагестанское духовенство, разрешавшее тяжбы этого рода, не всегда успешно разыскивало в Коране приличные случаю постановления о наследстве, отзываясь неимением оных, или же перетолковывая их по своему, а это самое и побуждало горцев обращаться к Адату.
23-го октября. Сегодня пришло в Калугу известие о кончине вдовствующей Государыни Императрицы. Когда слух об этом дошел до Шамиля, он немедленно распорядился наложить на своих домашних траур, сообразно обычаю, существующему в горах.
Этот обычай заключается в следующем. Траур налагается старшим в роде, или ближайшим родственником умершего. Без его разрешения, никто из близких и дальних родных покойника не может почтить его памяти, за исключением жены, которая надевает на себя траур немедленно.
Стр. 1461 …Это общее правило для «простых» людей и для «узденей». В случае же смерти членов ханского рода, приказаний на этот счет не дожидаются. Все домашние и даже слуги покойного тотчас же облекаются в траур.
Первое условие траура – прекращение военных и всяких других враждебных действий, требующих огнестрельного оружия и пальбы, и удаление от себя лошади, на которую в продолжение траурного времени горцы не позволяют себе садиться. То и другое считается высоким знаком уважения живых к усопшим.
Вероятно, по этой самой причине, Шамиль не носил сам и запретил своим сыновьям и всем прочим членам своего семейства даже женщинам, носить траур по старшему сыну своему Джемаль-Эддине, говоря, что в книгах указания на этот счет не имеется и что траур есть не что иное, как Адат, которому если и позволительно придерживаться тем, кто следует указаниям Шариата, то разве в то время, когда у них нет никаких других занятий.
Другая принадлежность траура – изгнание из одежды и оружия мужчин всего дорогого, всего блестящего. Костюм женщин подвергается точно такому же изменению, с тем еще различием, что все составные его части должны быть черного цвета.
Траур продолжается до пятнадцати дней. Первый выстрел, сделанный старшим родственником, хотя бы на воздух, служит сигналом окончания траура.
При таких условиях, горцы не всегда и даже очень редко имели возможность налагать на себя полный траур. Чаще всего это исполнялось в обществах, более удаленных от театра войны. Но постоянное отдание почестей умершим учреждено сыном Шамиля, Гази-Магометом, между мюридами, бывшими в его распоряжении по званию Мудира. По смерти кого-нибудь из них, он налагал, при первой возможности, траур на себя и на товарищей умершего. Продолжительность этого траура, если не зависела от военных обстоятельств, – ограничивалась теми же пятнадцатью днями.
27-го октября. В Колыванском пехотном полку, штаб-квартира которого расположена в Калуге, состоит на службе один горец, уроженец сел. Ашильты, прежде называвшийся Хасаном-Хаджио. Взятый в плен еще в детстве, Хасан-Хаджио принял впоследствии Св. Крещение, вступил в нашу службу и неоднократно отличался под Севастополем, за что, кроме нескольких Высочайших наград, удостоился еще быть представленным Государю Императору. Теперь он служит под именем шт.-кап. Парамонова.
Шт.-кап. Парамонов познакомился с Шамилем с самого приезда последнего в Калугу. Он пользуется большим расположением его и бывает у него довольно часто; но о перемене религии не говорит, и даже старается скрывать это весьма тщательно.
Из разговоров с ним оказалось, что Шамиль хорошо знает все его семейство, принадлежащее к числу лучших и богатых в покоренном крае, а родной брат Парамонова Магомет, оставшийся в последнее время старшим в роде, служил у Шамиля в звании юзбаши (сотника) и известен ему как храбрый и распорядительный человек, но при том, как тайный приверженец Русских и явный не исполнитель тех постановлений Шариата, которые касаются строгости в образе жизни. Магомет любил музыку, танцы и другие развлечения, положительно и строго запрещенные Шариатом и Шамилем. За все это Шамиль приказал его арестовать и предать смертной казни. Это было месяца за два до взятия Гуниба, но Магомет, предупрежденный заблаговременно родственниками, успел скрыться и передался к нам уже явным образом.
Третьего дня этот самый Магомет приехал в Калугу для свидания со своим братом, которого не видал уже более 20-ти лет. В билете, выданном начальником среднего Дагестана ген.-м. Лазаревым, он показан почетным жителем сел. Куцара Магометом Нуричаевым. Он старшина, или как себя называет, Пристав трех селений: Ашильты, Бетль и Карасу-Ахкент.
Невыгодное мнение, которое Шамиль получил о Магомете, бывши еще в Дагестане, отразилось при свидании с ним: оно было преисполнено холодности. Завязавшийся при этом разговор имел предметом теперешнее состояние покоренного края. Магомет рассказывал о мирных занятиях населения и о разных преобразованиях, которыми горцы, по его словам, вполне довольны, также точно как и положением своим вообще. Шамиль даже казался этим доволен, и по обыкновению не упустил случая выразить свою признательность за все, что сделано нашим Правительством лично для него и для недавно покоренного края, к блистательной будущности которого он высказал полное доверие. Кроме того, в его словах заключалась, по-видимому, искренняя похвала ген. Лазареву, так хорошо понявшему характер народа и действующему по указанию Правительства вполне сообразно с потребностями страны и ее населения. На другой день Шамиль показал Магомету весь свой дом, все свое хозяйство, книги и карету, на которую старался обратить особенное его внимание, как на предмет, недоступный понятиям Дагестана, и затем приказал ему сказать своим землякам, по возвращении домой, во-первых, чтобы они не верили глупым слухам о притеснениях и притязаниях которым подвергают его в России, а во-вторых, чтобы они вполне доверяли великодушию и доброжелательству Русского Правительства в отношении их края и их самих.
После того, Магомет тотчас же отправился вместе со своим братом в деревню за 30 верс. От Калуги, где расположена рота, которою тот командует.
В разговорах Магомет коснулся последних волнений в Ичкерии и Чечне. Руководителями этих движений он назвал трех бывших Наибов Шамиля: Байсунгура, Атабая и Умму. По его словам, Атабай замирится в самом скором времени, а Умма уж окончательно прекратил неприязненные действия, склонившись к тому вследствие убеждений бывшего при Шамиле в Калуге мюрида Хаджио, ныне состоящего на службе при ген. Лазареве.
Затем дело остановилось за Байсунгуром, который в настоящее время имеет в своем распоряжении уже более 300 чел. И находится с ними в окрестностях Беноя, переходя, сообразно движений наших войск, из лесов в самый аул, или из аула опять в ближайшие леса.
Рассказ свой Магомет заключил словами, сказанными однажды Шамилем и приведенными в одном из предыдущих дневников. Шамиль говорил, что хотя наступающая зима и даст возможность окончательно справиться с Байсунгуром, – но что, во всяком случае, уничтожение его шайки обойдется нам недешево потому, что Байсунгур не только сам не отдастся в руки живой, – но и сумеет передать энтузиазм своим людям, которые решились разделить его участь.
Слушая Магомета, сын Шамиля Гази-Магомет неоднократно прерывал его речь восклицаниями и жестами, когда упоминалось имя его друга Хаджио. Подвиги и успехи его возбуждали в бывшем Мудире непритворную радость и он, под влиянием этих ощущений, сказал как бы в ответ на последние слова Магомета, относительно трудности справиться с Байсунгуром: если бы я там был, – я бы справился с ним также легко, как Хаджио справился с Уммою.
Слова эти были сказаны полушутливым, полусерьезным тоном. Желая его поддержать, я спросил Шамиля, как он думает – справился ли бы его сын с Байсунгуром, или нет?
Подумав немного, Шамиль отвечал:
– Таш-адам Байсунгур! (камень человек Байсунгур!) что заберет себе в голову – ничем не выбьешь оттуда. Он правду говорил посланным полк. Черткова, что мертвые скорее услышат их, нежели он… А впрочем, Гази-Магомет его знает: он дело с ним имел.
В этом месте речь Шамиля была прервана каким-то посторонним вопросом и уже больше в этом вечере не возобновлялась. Сегодня, разговаривая с Гази-Магометом о Кавказе, я воспользовался первым удобным случаем, чтобы спросить его, какое дело имел он с Байсунгуром.
Гази-Магомет отвечал, что незадолго до взятия нашими войсками Веденя, Шамиль получил известия, возбудившие в нем сомнение насчет верности Беноевцев; вследствие чего послал его с сильною партиею к Беною удостовериться в справедливости этих слухов, и, во всяком случае, взять аманатом самого важного, самого нужного для Беноевцев человека. Этим важным человеком оказался Байсунгур, отличавшийся знатностью рода и вместе с тем необыкновенным безобразием: рябой, одноглазый, с одной ногой, с одной рукой, искривленной в дугу – Байсунгур, по словам Гази-Магомета и самого Шамиля чрезвычайно похож на шайтана. Указывая на свои глаза, на руки и ноги, Байсунгур говорил Гази-Магомету:
– Все эти раны и увечья я получил, сражаясь против Русских, и теперь я уже больше никуда не гожусь. Подумай: не будет ли тебе стыдно, что ты возьмешь в аманаты этакую дрянь? Возьми-ка лучше кого-нибудь другого, от кого можно ожидать проку больше, чем от меня.
Ответ Гази-Магомета заключал в себе и уважение к заслугам Байсунгура и тонкую лесть, весьма искусно связавшую наружное его безобразие с внутренними достоинствами и с причинами, от которых безобразие произошло. Вообще же, из слов Гази-Магомета, Байсунгур должен был заключить, что его следует считать самым красивым молодцом во всем Дагестане.
Таким обращением, Гази-Магомет вызвал со стороны Байсунгура большое к себе расположение. Но оно обратилось в чувство более сильное, когда Шамиль объявил ему, что убеждаясь его словами, он не хочет лишить Беноевцев их храброго Наиба; но имея надобность взять от них аманата, он считает в этом звании Байсунгура, которого оставляет дома, вполне доверяя его чести.
Выразив в то время Гази-Магомету благодарность, Байсунгур постоянно старался и потом пользовался всяким случаем, чтобы заявить ему свою симпатию.
Этим закончил Гази-Магомет историю знакомства своего с Байсунгуром. Я спросил его: не на этой ли симпатии он основывает успех дела, о котором говорил накануне.
Гази-Магомет отвечал утвердительно, и при этом повторил вчерашние слова со следующим добавлением: что если бы он был так счастлив, что мог бы надеяться на доверенность к нему нашего Правительства, и если бы ему позволили съездить на Кавказ для усмирения Байсунгура, то он ручается за полный успех этого дела, основывая его на убеждении что для замирения необходимо одно лицо, ручательство которого было бы в глазах Байсунгура надежным в неприкосновенности его и в устройстве его оседлости в Беное, а не в другом месте, куда, если признается нужным, можно будет перевести его с большим удобством, нежели теперь, потому что единственное условие, которое может поколебать мрачную решительность Байсунгура, это обещание оставить его на жительстве там, где лежит прах его предков.
Что касается до ручательства, то оно тогда только будет иметь для него надлежащую цену, когда он получит его от самого Шамиля, или от кого-либо из членов его семейства. Не находя приличным продолжать этот разговор, я прекратил его, согласившись с мнением, высказанным Гази-Магометом. Со своей стороны, я считаю не лишним дополнить вышеизложенное следующими соображениями.
1) Предварительных совещаний между Шамилем и Гази-Магометом относительно «замирения» Байсунгура наверное не было: оно сделано последним экспромтом.
2) Желание представить каким бы то не было способом доказательства признательности и преданности Государю Императору развито у всех членов семейства Шамиля в высокой степени.
В самом Шамиле и в старшем его сыне оно развито, по очень понятным причинам, сильнее, чем в ком-нибудь другом.
3) Этим объясняется причина высказанного Гази-Магометом желания, зародившегося с той минуты, в которую излилась на них Монаршая милость; оно росло и укреплялось в продолжение всего времени их плена, представляющего собою непрерывный ряд попечений, щедрость и внимания. Но, по отношениям пленников к нашему Правительству, оно могло выражаться только фразами, конечно задушевными, но, тем не менее, бесплодными. Теперь же, слушая о том, как Хаджио пользуется возможностью заслужить оказанные ему милости, Гази-Магомет, преисполненный желанием сделаться достойным того, что для него сделано, – не мог удержать своего чувства, и высказал то, чем проникнуты все его мысли; и
4) Ручательством верности Гази-Магомета, кроме врожденной в нем правдивости, могут служить его серьезная разумная личность, глубокая признательность к нашему Правительству и, наконец, чувство привязанности к жене и к отцу: первую он любит как жизнь свою, к последнему питает род обожания.
29-го октября. Шамиль и все члены его семейства здоровы. Сам он по-прежнему усиленным образом занимается молитвами и чтением своих книг, разнообразя эти занятия постом; он постится постоянно три раза в неделю.
За ноябрь 1860 года. 7-го ноября. С последних чисел октября по 6-е ноября я был болен воспалением в легких. Во время вчерашнего своего посещения, Шамиль предложил мне испытать средство, употребляемое в горах против простудного кашля, соединенного с затруднительностью в дыхании, чем именно я и страдал в последний период болезни. Средство это не что иное, как кипяток из обыкновенной речной воды, разбавленный сахаром. Составленное таким способом лекарство, принимается в довольно больших размерах, от одного до трех стаканов в один прием, вместо утреннего и вечернего чая, преимущественно же на ночь. О действительности этого медикамента «написано в книгах». Пользу его, именно при означенных условиях, а тем вернее при меньшем развитии болезни, испытали на себе все члены семейства Шамиля. Сам же Шамиль до такой степени убежден в действительности своего лекарства, что почти насильно заставил меня выпить два стакана кипятку, один за другим, почти не переводя дыхания, что впрочем, при этом лечении составляет необходимое условие. Говоря вообще, средство это, несмотря на всю его невинность, весьма легко способствует облегчению страданий: оно возбуждает довольно сильную испарину, мягчит грудь, делает дыхание более свободным и все это производит в самое короткое время, так что больной чувствует облегчение в то время, когда пьет свое лекарство, которое даже и на вкус совсем не противно.
Разговор наш естественно обратился к медицине горцев. Я спросил Шамиля, есть ли в горах люди, которые пользуются хорошею врачебною репутациею, чем обыкновенно лечат они своих пациентов и руководствуются ли каким-нибудь подобием теории; или, по крайней мере, есть ли в их практике что-нибудь похожее на систему.
Ответ Шамиля заключался в следующем. Как против холеры генеральным средством считается в горах холодная вода, – так против всех остальных человеческих недугов, за исключением ревматизма, огнестрельных ран и всякого рода ушибов и порезов, употребляются только три средства: кровопускание, рвотный камень, да еще вышеназванный кипяток с сахаром, лекарство впрочем, аристократическое потому, что доступно не для всякого. Каждый горец по своему желанию выбирает из них любое, и, возложив на него свои надежды, придерживается его или до окончательного прекращения болезни, или, смотря по ходу ее, меняя одно лекарство на другое.
Люди менее самонадеянные призывают к своей постели так называемых «Хакимов» (докторов), которые пользуют их точно та же, как бы пользовались они сами. Поэтому разница между горцами врачами и не врачами заключается только в том, что первые принимаются за лечение больного с большею смелостью, нежели сделали бы это другие.