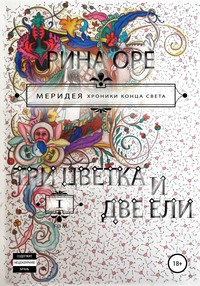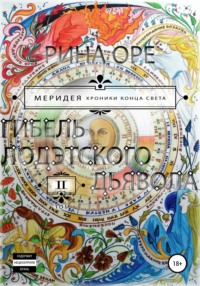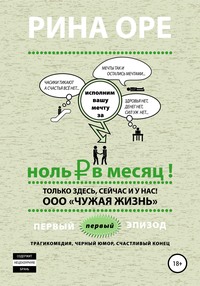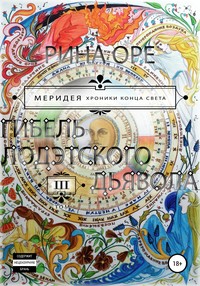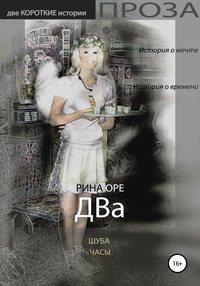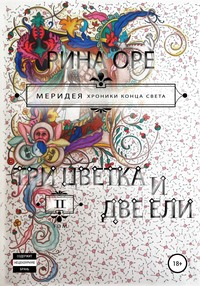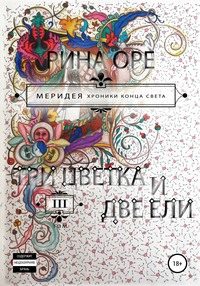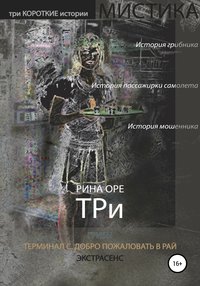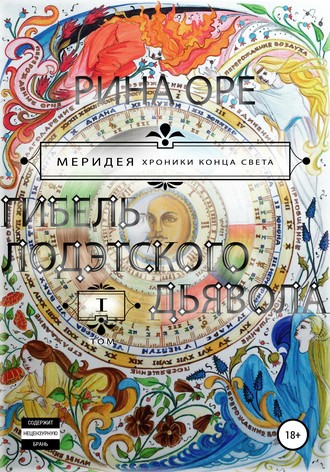 полная версия
полная версияГибель Лодэтского Дьявола. Первый том
«Каковая же я глупая, – подумала она. – Даже не гадала о чуйствах Нинно…»
– Мушш? – округлила Ульви свои карие, без того круглые от природы глаза. – А где он?
– Он панцирный пехотинец, новобранец. Пойдет до Нонанданна уже в празднество.
– Ух ты! А у меня авродябы есть ухожор. А он мне, правда, еще ничё не задаривал, тока звал в городу гуливать. И угощенцы носил. А я любвлю покушивать. А как же мы с тобою будём одной едой-то упитываться?
– Как мы будемся почивать на одном тюфяке? – прикусив губу, улыбнулась Маргарита.
– А за энто не боись! Я привышная сплять с пятьюми сестрами и не толкаюся, – улыбнулась Ульви, показав крупные зубы и розовые десна.
– Ты же кричала, что сирота!
– Сиротааа, – полный печали вздох. – Меня соседи сжалели и не сдали до приюту, к себе жителять взяли, затем что я красившная и деньжатного жаниха сыщу, – широкая улыбка. – И я и в огороду, и в дому всё у их работа́ла, но стока урону начиняла, что меня погнать удумали, – вздох. – А тута на дёрёвню Несса Моллак понаехала, чтоба камню на могилу матери сменять. А меня ей и пихнули, – улыбка. – Нахваляли, экая я вся гожа́я, но она не поверила, – вздох. – Сжалела попросту. А я рааадая сталася! – улыбка. – Чаяла: наскупляю себе платьёв, – вздох. – А жалуваньё двадцать регно́в с триады! А тебя еще кормлют! И жителять есть где! – улыбка. – Но я еще ни разу монет не… – долгий, пронзительный вздох.
Маргарита, пока слушала этот приправленный переменчивым настроением рассказ, размышляла о том, что они с Ульви и впрямь похожи, вот только нравится ли ей ее отражение, понять не могла. Она вгляделась в круглое лицо своей «тезки» и нашла его приятным – большие, «изумленные» глаза, толстые губы, розовеющие здоровым румянцем щеки. Курносый носик в веснушках дополнял портрет обманчивой простоты. Красавицей Ульви назвать было нельзя, дурнушкой тоже, – скорее милой, но только когда она молчала, а не тараторила. Молчала Ульви редко. Со спины эта девушка казалась очень тоненькой и хрупкой. Тем удивительнее выглядело колыхание ее неприлично большой груди – казалось, что Ульви украла и спрятала под платьем два капустных кочанчика. Из-под чепчика новой подруги Маргариты смешно торчала пушистая темно-русая челка – в деревнях ее остригали девушкам как оберег от сглаза. Позднее, когда перед сном Ульви распустила косу, то густые волосы упали ниже ее спины. Ульви оказалась немного старше Маргариты – ей исполнилось четырнадцать в первый день меркурия первой триады Смирения или без малого две восьмиды назад, когда Несса Моллак взяла ее в замок. Открытость, простоту и легкость в мыслях подарило ее плоти как раз рождение в восьмиде под белым цветом. От Луны она получила крест из Кротости, Смирения, Чревообъядения и Гордыни. Месяц Феба наделил ее музыкальностью – если Ульви оставалась одна и поговорить ей было не с кем, то она пела, подражая то звукам лиры, то трубам, то колоколам.
– Чего будем делывать? – спросила Маргарита. – Пошли в курятник?
– Да пустое тама сыщать, – отмахнулась Ульви. – А я ужо всё там пересыщала. А самое обидное, что и в энтот раз я нисколешко не виноватая! А энто всё Гюс Аразак. Когда вчёру я лезла из куряшнику, он подо мною леснюцу как качнул – и я сроняла две корзины со всеми яйца́ми, а там не меньше́е двадцати дюжинов было́. Энтот Гюс завсегды надо мной издёвывается. А я сперва думалась, что любвая ему, но нет! Он просто надо мною издёвывается! И чего я ему так всталась, что как упырь в меня впился? – вздох. – А я еще вчёру от побитых яйцов всё очищила и полночи молилася Боженьке, чтоб Несса Моллак ничё не приметила, но как бы не так – я несвезучая!
– А кто это Гюс?
– А он племяшник Хадебуры, но здеся не жителяет. Он служник градначальнику. А когда тот здеся, то Гюс с другими служка́ми снизу тирается, и от нечего дёлывать ко мне лезется! А так он женихатся к Марили, а та ему от ворот повороту дала, затем что метит выше́е. А Гюс засим на мне злобствует.
– Градначальник Совиннак? – удивилась Маргарита. – В Доле? В кухнях бывается?
– Бывается, и частенькое. Он с Нессой Моллак в ее спляшне запёрывается: она ему тама наушничат. А кухни – энто таковское место, где всем всё ясно́, что в замке сотворивается. Раз велют к ночи стол убрать, да с вина́ми и краба́ми, то в энтой спляшне наш герцог наспляшат, – хихикнула Ульви. – И другие господарины что дёлывают, тож ясно́ по блюдя́м. А у Нессы Моллак, у единой, здеся своя спляшня. А у Хадебуры, правда, тож есть, но у нее-то спляшня малюююськая, – показала пальцами Ульви, что спальня у великанши Хадебуры примерно с ноготок. – А у Нессы Моллак – вот эдакая! – широко развела руки Ульви. – Моглась бы жителять тама с семеёю. Но она одна. Никогошеньки у нее нету.
Ульви прищурилась и, прикрыв ладонями рот, мокро зашептала Маргарите в ухо – да так, что понятно было через слово:
– Градначальник Свиннак… Несса… А любвильники… Притыкнул в кухню…
Маргарита недоверчиво покосилась на Ульви: всё же Несса Моллак была лет на пятнадцать старше градоначальника, если не больше.
– Так чего же будемся делывать? – спросила Маргарита, а Ульви пожала плечами и затем вновь душераздирающе вздохнула.
Девушки сидели на скамье, между ними лежали их незатейливые сокровища. Маргарита погладила пальцем гребень.
– Кабы мы пошли до рынку… – задумчиво проговорила она. – У меня есть восемь регнов. Раньше́е хватило бы на восемь дюжин, но ныне дюжина стоит аж шесть регнов… Если сможешь продать мыло и этот гребень то, наверное, выручишь не меньше́е шестнадцати монет. На четыре дюжины курьих яиц как раз хватит. Да вот из замка просто так не выйти и не войти.
Ульви оживилась.
– А энто не затрудненье! Тот, кто жанихатся ко мне, – он глава всех воро́тников. А звать его Пари́с Жозза́к. А я ему нравлюся ужасть прям! А он старый, – сморщила курносый, веснушчатый носик Ульви. – И сядой! Фу! Но раз так – поулыбаюся ему и поплачуся. А тебе не жалкое экого гребешка?
– Жалко, – зеленые глазищи увлажнились при мысли о добром дядюшке. – Но у меня зеркальце останется. А гребень ты мне свой дашь, так?
Ульви часто закивала, подтверждая: всё мое – теперь твое.
– Я намечтывала себе о новой жизни, – продолжала Маргарита. – Ну вот: новый гребень у меня…
– Тады я мигом!
Ульви хватила гребень и мыло, взметнулась, у порога бросилась назад, обняла Маргариту и убежала, не прикрыв дверь. Маргарита, оставшись одна, чуть не разревелась: гребня ей было очень-очень жалко. Всё свои нехитрые ценности она почти растеряла, а приобретала новую кухню и новую тетку Клементину, полкровати и полпорции еды. Новая жизнь, что час назад представлялась в ее воображении чудесной переменой и редкой удачей, издевательски подражала той, что была до замужества, да теперь прежние условия в уютном доме Ботно казались девушке дивными – там у нее имелась и своя комната, и целых две подушки.
– Всего-то кольцо, деньги, гребень и мыло! – жестко сказала Маргарита. – Зато зеркальце у меня осталось! Я подмогу Ульви, а она мне – она тута уж две восьмиды и всё знает…
Ульви вернулась через триаду часа – всё это время она нещадно торговалась с Марили, с той красивой сиренгкой в желтом платье, которая, как еще узнала Маргарита от своей словоохотливой «тезки», прислуживала за столом герцога и столовалась в общей кухне с Нессой Моллак, Хадебурой и другими работниками высокого положения. Ульви просила тридцать регнов за мыло и гребень, но Марили не соглашалась покупать более чем за десять, хотя только гребень Жоль Ботно заказал у костореза за четырнадцать монет. В конце концов Ульви и Марили сошлись на двенадцати регнах серебром и трех медяках, зато на рынке Ульви смогла сбить цену до тех денег, что они набрали.
«Эта кудрявая Марили та еще щука, – думала Маргарита, – раз ей даже птичник уступит в оборотли́вости. Ульви права – она явно пойдет дальше́е: в покоевые прислужницы, скажем… А может, и замуж за графа какового-нибудь пойдет – будется аристократка».
И такие истории рассказывала тетка Клементина. Случались они, правда, в незапамятные времена, еще при деде Альбальда Бесстрашного.
Около полудня обе Ульви, запыхавшиеся и горячие от солнца Лиисема, показывали в кухне ошеломленной Нессе Моллак корзинку с почти пятью десятками яиц.
– Ты и правда дура, – задумчиво изрекла Несса Моллак в сторону Маргариты. – Даже хужее – ты добрая дура! – покачала она головой и указала на стол в дальнем углу – со столбами тарелок и возле трехногой деревянной лохани. – Ульви чищает посуды. Здесь чищает, затем что слабоумному Иле́ нельзя в общую кухню – первый повар бранится. Иля носит во́ды, но ежели чё – сами беритеся за ведры. Ульви еще трет посуды снизу, в ово́щной. Майрта даст вам кашу – и за дело. И чтоб ни одной глазурной тарелки не побили! Каждая стоит больше́е, чем ваши жалкие жизня! За раз отмачивайте по десятку. Трите их, покедова пальцы скрипеть не почнут. Стеколы должны ослеплять меня звезда́ми, латунные блюдья – златеть, что златое злато, и зеркалять, как зеркальные зеркалы! За работы, Ульви!
Твердый комок овсяной массы получила в сложенные ладони Ульви. Пресная каша показалась Маргарите отвратительной на вкус, цвет и даже запах, так что ее всю с удовольствием слопала Старая Ульви: Новая Ульви лишь выпила воды, но после полуденной жары с беготней на рынок кушать совсем не хотелось, и она не расстроилась.
Затем девушки мыли изумительной красоты расписные тарелки: квадратные, прямоугольные и круглые; начищали металлические приборы, кувшины и блюда. Вечером в наказание за разбитые ранее яйца им снова достался единственный комок каши, тогда как другие работницы получили овощи с мясом, моченые яблоки, хлеба и даже масло. На обед Маргарита уже не стала отказываться от пищи – она отщепила и, кривясь, проглотила несколько безвкусных комочков.
– Прифышнешь, – жевала и говорила с набитым ртом Старая Ульви. – Хаша – энта самест хлепу для прачех и упоршиц. А ешли славно утем раптать, Несса Моллах фхусненьхохо хинет. А шо из рук едываем – энто даж оршо – трелхи тирать не нато. Хохта ты стохо нанатёрывашь, схоко я – фсю шишню утешь радою из рук хушать, лишь бы ништо не шпачхать.
Уже после заката девушки снова мыли и натирали до блеска посуду с позднего обеда герцога. Потом подмели пол и пошли на первый этаж, где их тоже ждала посуда, теперь глиняная, от прислуги высокого положения. Ее не берегли и сразу складывали в большую кадку с водой, но там накопилось с полторы сотни тарелок.
Пока они их вытирали, Ульви рассказала, что аристократы при дворе герцога вовсе не завтракают – за целый день лишь выпивают глоток вина и съедают крошку хлеба, но ближе к вечеру обильно кушают за долгим обедом и около полуночи вновь трапезничают, почему-то называя такой прием пищи «ужин», как полдник в деревне. Хлебная кухня ужин не обслуживала – хлеба, пирожные и пироги готовились заранее, в течение дня, зато в хлебную кухню сносили тарелки, и поутру у посудомойки всегда имелась работа. Еще Ульви рассказала, что в общей, мясной и винной кухнях работают одни «мушины», приходящие в замок из города.
– Они зазнайки! – говорила Ульви, вытирая полотенцем очередную миску. – Николи даж не заглянут в хлебную или ово́щную, а мне фыркают, засим что ниже́е меня никогошеньки в кухнях нетова… И тябя теперя тожа. А тама главно́й – энто важной первый повар, экому знашь, скоко пло́тют за празднишное пиршсво? Николи не поверишь! Два альдриану за пиршсво и златой в будню! А в общую кухню сносют всё, и он энто красивишно ложит на блюдя́х – вот тока за энто ему златой и пло́тют! А всякой бы смогся! Даже управитель Шотно энтому повару не указ, засим что герцог лобзает его крепчае, чем свою жану, – я слыхивала, так сама Несса Моллак как-то сказывала, но ты николи не болтай про герцогу, даж имя его не поминай, а то тябя сразу погонют и еще язык отрежат. А еще двое есть: один толстый, а другой жует всё время, но отощалый. Они зовутся… прядителями обеду. А они токо указывляют, чё и когда несть, да хваляют пред герцогом блюдя́! А здеся, снизу, ово́щная кухня. Здеся стряпают для прислугов три старухи – две помоложе́е и одна вовсе старая. А они еще варют варенья, наливают наливки и марьнуют марьнады. А за энтой дверью, – кивнула Ульви в угол, – кладо́вая и погреб. А я тудова одна боюся ходить – тама крысы… А еще есть погреб в винной кухоне – тама крысов нету, но есть вины в амфурах, экие стоют даж больше́е, чем жизня самой Нессы Моллак. А самая старая из старух ничто не боися и сплят здеся, за занавесою… А две боются и сплют с нами… А здеся тож водются крысы, кошки же гуливают черт-те где… А я ужасти прям как крысов боюся, а ты? Тожа? Тц, жалкое… А хороше́е бы было́, коли бы ты их не боялася – топляла бы их заместу меня…
С тяжелой головой, ошалевшей от перемытой посуды и нескончаемой болтовни Ульви, Маргарита ночью пыталась заснуть на своей половине тюфяка. Она проваливалась в сон, даже несмотря на то, что хрупкая Галли храпела в точности так же, как позапрошлой ночью храпел пьяный Иам. Но уснуть не давала именно Ульви – эта девушка не устала, ведь делала половину своей обычной работы, да ела так, как будто бы была одна. Болтливая и неделикатная, она и сейчас, желая поговорить, тормошила Маргариту. Если бы рядом имелась подушка, то Новая Ульви не выдержала бы и придушила бы ею Старую Ульви. Однако Маргарита заставляла себя терпеть, понимая, что ее нынешняя подруга, какие бы досаждающие недостатки не имела, являлась единственным человеком, от которого она могла ждать помощи в новом для нее мире Доли.
– А как тама, в замушничестве? – шептала Ульви Маргарите в ухо.
– Нуу… если честно, то не поняла еще… – вздыхая, тихо отвечала та.
– Ну а энто? А ночею-то?
– Мне не понравилося…
– Вовся?
– Вовсе… Гадостя всяковые, и всё. Знала б, никогда не пошла замуж… Давай започуем, очень тебя прошу.
– А давай…
И едва Маргариту начало затягивать в сладкое забвение, ее по плечу легонько стукнула кулачком Ульви.
– А мой ухожор тябе каков? Старик, да?
– Седой, но не старик, – из вежливости солгала Маргарита. – Многие рано седеют. Ему годов пятьдесят, наверное…
– Пятьсят пять ему – он старик. На сорок один меня старше́е! А мне четырцать. А цифири перемень – и вот… А у тябя помоложее мушины есть? Холостые? Братья?
– Да, два брата, но… – понуро пробормотала Маргарита. – Старший скоро женится, а младшему десять… Еще Нинно есть, кузнец… Но вряд ли… Давай спать.
– А чего? А он ладнай? Пьянь? А невёста у него есть? А чего вряд ли то? А? Да ответься же ты!
– Только после ты дашь мне поспать. Пожааалста! – взмолилась Маргарита. – Я тебя на венчанье брата возьму и на пиршество после него. Он на сестре того Нинно женится – сама всё поглазеешь.
Ульви стала ее обнимать и чуть не столкнула с тюфяка на доски.
– Как тебя по-настоящему звать? – спросила Маргарита, пытаясь избавиться от этого яростного натиска горячей признательности.
– Ульви́! – тихо, но с ударением прошептала та. – А энто мое правдашнее имя! Вот так вота! А Несса Моллак, как зазнала, сраз меня сжалела!
– Да, забавно… Меня Маргаритой зовут, в честь цветочков… или Гри́ти… Мама говорила, что маргаритки как солнышки – и я ее солнышко… Хотя мне дядюшка так сказал, а он добрый – мог соврать… Матушка тоже как цветок Анге́ликой звалась, и я дочку, Ангелику, хочу…. – зевнула Маргарита. – Чего-то и я разболталась. Давай започуем… сшплять, пожааайлста! Умоляю! Сшплять!
– Сплять, дуреха, – поправила ее Ульви и заерзала, удобнее устраиваясь на спине. – А хорошо, что мы обе худые… Да?
Маргарита не стала отвечать, отвернулась на бок и через минуту забылась сном. Ей снился Нинно в кирасе Иама, но не с мечом, а с топором в руке – таким же, как у деда Гибиха. Нинно в одиночестве стоял у ограды Западной крепости, на том же месте, где он недавно обнял Маргариту и тем самым без слов признался ей в любви. Крепость была полуразрушена, ее башни почернели от огня. Горела и земля подле крепости, и крыши соседних домов; из окон вместе с темным дымом вырывалось пламя. Густая, сизая пелена этого дыма мешала увидеть, что происходит у городских ворот. Когда мгла чуть рассеялась, к Нинно из серого тумана вышли всадники, и первым на тощем белом коне ехал он – Лодэтский Дьявол, голый и весь облитый, с головы до ног, чем-то ярко-красным. Пахло от него скотобойней: животным потом и кровью – как застарелой, так и свежей (даже запах гари не мог перебить эту мерзейшую вонь). Увидев Нинно, демон расправил за своей спиной вороные крылья и взлетел с коня ввысь, а затем, подражая соколу, стал падать камнем на свою жертву. Нинно в этот момент притянул неизвестно откуда возникшую Ульви и страстно впился, как упырь, в ее рот своими губами.
________________
Празднество Перерождения Воды в засушливом Лиисеме весьма чтили и считали его третьим по значению празднеством после Возрождения и Перерождения Воздуха. В последнее благодаренье Нестяжания цветочными гирляндами украшали дождевые водосборы и колодцы, в реки бросали венки и загадывали желания. Древнее поверье гласило: если венок доплывет до моря, то желание, даже самое дерзкое и невероятное, обязательно исполнится. Вот только в Элладанне не было рек, впадающих в море. Мелкая Даори, исток которой находился на холме, дарила городу три питьевых фонтана. Излишки воды из них попадали в стоки и использовались для общественных уборных, поэтому, во избежание засоров, законом «О чистоте Элладанна» строго-настрого запрещалось бросать в речушку цветы. Кого ловили за этим занятием, отправляли разгребать помойные, полные навоза, ямы.
Перед полуденной службой, священники украсили красными маками врата храмов, посыпали их лепестками ступени святых домов. Для работниц и троих работников Доли праздничная служба прошла во внутреннем дворике с пестрым от букетов колодцем. Для преторианцев и пяти тысяч новобранцев службу провели на ристалище Южной крепости. Роскошный храм Пресвятой Меридианской Праматери посетили аристократы и избранные счастливчики, потому что проход на самый верхний ярус стоил тридцать шесть регнов, но Несса Моллак, Хадебура и Марили отправились именно туда.
Ночью люди ходили к водоемам, чтобы искупаться, отпраздновать момент перерождения воды и набраться здоровья на год. Экклесия запрещала так делать, называя столь веселые игрища «бесовскими обрядами язычников», но орензчане не изменяли многовековой традиции. Кто-то искал в эту ночь русалок, чтобы поймать их и затребовать богатств, кто-то просто плескался в теплой водице до рассвета среди проплывавших мимо цветочных венков.
Возле Элладанна в Левернском лесу имелось несколько озер и ручьев. А больше всего, хоть путь туда и занимал от пяти дней, Маргарита любила поездки в горный городок Калли, где можно было полюбоваться на водопады, бросить в Лани венок и загадать желание. В этом году она, конечно, в Калли не попала. Впрочем, туда не поехали и все Ботно, и другие горожане Элладанна, – появились назойливые слухи о том, что ладикэйцы и Лодэтский Дьявол уже разграбили Бренноданн, что их войска отдохнули и что они выдвинули корабли вверх по реке, подбираясь к Лиисему.
Никаких особых торжеств после полуденной службы в Элладанне не случилось. Обычно во все восемь главных празднеств на улицах раздавали мясо и хлеба, угощали пивом или вином, но не в первый год, сорокового цикла лет. Лишь казни немного развлекли горожан – на виселице вздернули тех, кто не заплатил военный сбор.
________________
Меридея познакомилась с порохом в виде невинных шутих для королевских празднеств, и с тех пор, весь одиннадцатый век, его с переменным успехом применяли на поле брани. Но легкие шутихи порой разворачивало ветром к своим же, селитру с трудом находили под коровниками, рассыпчатый порох быстро приходил в негодность. К сороковому циклу лет лучшие умы континента бились над разрешением этих трудностей: улучшали состав пороха, строили селитряницы, изобретали разное «громовое оружие».
Применение пороха как метательного заряда было самым предсказуемым, следовательно, в этом направлении и работали изобретатели. Средних размеров пушки отливали из бронзы, причем рецепты сплавов каждый мастер держал в строжайшей тайне; огромные, стенобитные орудия изготовляли из кованых железных пластин и колец, правда, прежде чем вновь пальнуть, дожидались, пока остынет ствол, иначе литые пушки давали трещины, а стенобитные разрывало. Ружья проделали путь от медных трубок, укрепленных кольцами, до стального ствола на древке, какое клали на плечо; но без доступа к огню, в дождь или снегопад, ружье с фитильным замком становилось бесполезным, а ручной терочный замок часто подводил. Недавнее изобретение бронтаянцами пружины открыло новую эпоху «ручниц», вот только ружье с колесцовым замком стоило не меньше двух золотых монет и, вообще, такие устройства были крайне редки. Распространению огнестрельного оружия мешали и законы, запрещающие самовольное ношение такового, его свободное производство и продажу. К концу одиннадцатого века ружьям еще предпочитали надежные и намного более дешевые арбалеты, заряженные стрелами, пулями, камнями или болтами (стрелами с увесистым наконечником), а медлительные пушечные орудия не давали в открытом поле серьезных преимуществ – их использовали для обороны города или лагеря, для разрушения стен и укреплений.
Рыцари оставались грозной атакующей силой. Выстроившись в широкий клин, они на скаку сминали пехоту: их тяжелые длинные копья сбивали с ног человек десять в ряду, их большие кони топтали упавших, их совершенные мечи разрывали кольчуги, и не всякие рыцарские доспехи пробивали пули, тем более арбалетные болты. Даже потерявший коня рыцарь стоил полсотни пехотинцев, ведь не знал страха, отличался недюжинной силой, да и сеча для него была забавой – жизнь простолюдина не стоила ничего, но благородный воитель являлся выгодным пленником. Противоборствующие рыцари всегда старались пленить друг друга, а не убить, и не только из-за выкупа – за века они выработали свой устав и следовали благородным правилам войны. К примеру, признавший поражение рыцарь более не пытался сражаться или бежать; взамен мог рассчитывать на полную свободу в плену и достойные его титула почести. Учтивость рыцарей порой доходила до абсурда: часто король заранее сообщал врагу о своем нападении, давал две восьмиды на подготовку к противостоянию и нередко соглашался на отсрочку. Поэты воспевали такое великодушие, пусть оно и приводило к разгрому, призывали к новым подвигам, новым войнам, где одни аристократы могли прославиться, другие разбогатеть.
Постоянного войска король не держал – максимум личный полк, дружину. По требованию каждый ленник или феодал был обязан отрядить в королевское войско определенное число лошадей и годных для ратного дела мужчин, вооружить их и обеспечить защитными одеяниями. Брать в воины предпочитали свободных людей, ведь землеробам и их семьям требовалось прежде дать свободу. Сам же аристократ, если не присягнул королю на верность как рыцарь, мог воздержаться от участия в войне. Королю или другому вождю приходилось объезжать вотчины рыцарей и убеждать тех встать под его знамя. Если рыцарь соглашался, то приводил с собой собственную дружину, умелых воинов. В итоге формировалась пехота из лучников и копейщиков, тяжелая ударная конница из рыцарей и маневренная легкая конница для преследования отступающих. Флот имелся не у всех правителей. При необходимости король покупал у купцов торговые корабли, какие переделывали в боевые.
Воинские должности были связаны с придворной службой: стольник, конюший, виночерпий… Высшей должностью при королевском дворе являлось звание первого рыцаря, хранителя царского жезла. В случае войны король сам возглавлял войско или же назначал полководца – тот делил войско на роты и отряды, определял ротных, знаменосцев, посыльных, горнистов. Ротными обычно становились воины в звании оруженосца. Кроме того, войску требовались лекари, обозные, кашевары, оружейники, плотники и снабженцы. К обозам неизменно прибивались девки и их сводники, странствующие аптекари и лицедеи, мелкие кустари и пивовары. Численность нападавшего войска составляла от пяти до десяти тысяч воинов – иначе не прокормиться в походе. Они захватывали город, ждали подкрепления, захватывали или осаждали новый город. Оборонявшаяся сторона имела ряд преимуществ – знакомая местность, многолюдная пехота, городское ополчение.
Рыцарский отряд из восьми-десяти воинов назывался «копье». Копья выстраивались цепью в «частокол», когда рыцари воевали отряд на отряд. Впереди рыцарь, за ним оруженосцы, следом пехотинцы с разнообразным оружием. «Знамя» – это построение из одних рыцарей большим клином или двумя-тремя зубцами; «зубчатое знамя» рассыпалось на «ленты» (банды); между «лентами» шла пехота. (Именно разбойничавшие отряды из рыцарей, безземельных или наемников, дали название преступным бандам). «Свинья» – мощный тупоконечный клин из рыцарей по краям и из пехотинцев в середине. Выступая против лучников, рыцари спешивались.
Долгое время «свинья» или «знамя» успешно ломали строй вражеской пехоты. Считалось, что победит тот, у кого в войске окажется больше рыцарей – главной атакующей силы, – оттого и брали короли наемников. Рыцари с золотыми шпорами возглавляли ударные клинья. Но ровно цикл лет назад простые пехотинцы-копейщики из войска Альбальда Бесстрашного, собранные в баталии, одолели ладикэйских рыцарей, – те просто увязли, как в болоте, в стотысячной толпе простолюдинов; пали, насаженные на их длинные пики. Так пехота, считавшаяся вспомогательной силой, неожиданно вышла на первый план и заняла достойное место в сражениях.