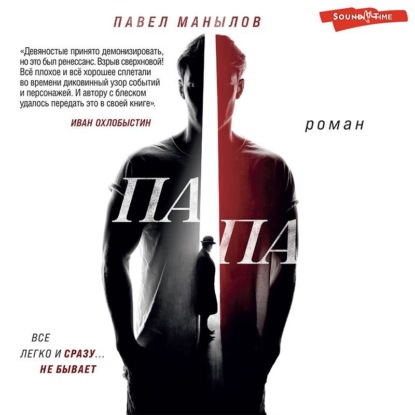Полная версия
Облако
Девушка прыснула.
– Вы попали в точку. Конечно, я не всегда работала закройщицей.
– А кем еще?
– Да много кем. Когда-то давно работала даже в модельном агентстве, в Железногорск-Илимске.
– Кем, моделью?
Девушка, опустив глаза, улыбнулась.
– Вы очень милы. Нет, администратором.
– Что ж, приятно, что все это не помешало вам так хорошо знать русскую классику.
Девушка с улыбкой опустила глаза.
– Просто я сейчас живу в таком месте, где очень много русской классической литературы – прямо в таких длинных шкафах. Так что я пользуюсь – прихожу с работы и все это читаю. Недавно прочла «Тысячу душ» Писемского, а сейчас читаю Лескова – «Соборяне».
Вадим впечатленно крутанул головой.
– Где же это такое замечательное место, где люди так замечательно проводят время. В иной ситуации я бы сам туда переселился.
– Да нет, просто… – девушка живо бросила взгляд на Вадима. – Вы не подумайте чего плохого… Просто я сейчас живу в чужой квартире.
– В смысле… Снимаете?
– Нет, как бы вам это… Просто вы не знаете. У нас же много людей разъехалось. Ну и квартиры пустые, а их же ни продать, ни сдать не получается, ну и люди стали понемногу занимать их – все равно же никто не живет.
– Самозахватом?
– Ну почему захватом – просто многим не хочется жить с родителями, кому-то так ближе на работу, и к тому же мы же ничего плохого не делаем – не мусорим, живем в чистоте, чужих вещей не распродаем – я даже знаю случаи, когда хозяева знают, что в их квартире кто-то живет, – и не возражают.
– А если заселятся какие-нибудь специфические друзья – из дружественных или не очень дружественных республик?
– Не заселятся, у нас их нет. – Девушка оживленно взглянула на Вадима. – У нас дом, построенный еще в тридцатых годах каким-то авангардным архитектором – ну, типа, для людей будущего, там все квартиры в линию, все выходят в такой длинный коридор, и через каждые три квартиры общая площадка, с диванами, креслами, чтобы все могли собираться и общаться.
– И что, общаетесь?
– Мы только там и пропадаем. На самом деле действительно очень удобно.
Вадим вздохнул.
– Что ж, рад, что вам так хорошо живется. Кстати, каких-нибудь гостиниц в городе не знаете?
Девушка удивленно распахнула глаза.
– А вам негде жить?
– Как это ни странно. Ткнулся было, но выяснилось, что все гостиницы позакрывались.
– Ну да, к нам же в общем-то никто не ездит. – Девушка подумала. – Хотя нет, по-моему, еще есть одна. Называется «Шангри Ла».
Вадим знающе кивнул.
– Уже нет. Захвачена кришнаитами-постмодернистами.
– Тогда не знаю.
– Ясно.
С вновь возвращенной церемонностью, смешанной, впрочем, с затаенной улыбкой, девушка взглянула на Вадима.
– Мне, конечно, очень неловко… Но если так, то вы вполне можете пожить у нас.
– А есть место?
– Свободных квартир хватает. Рядом со мной свободная однокомнатная, и еще есть.
Раздумывая, Вадим посмотрел вдаль. Впереди, на перекрестке в темноте, засветились фары машины. Словно секунду поколебавшись, она свернула в боковую улицу. Почему бы нет, подумал он, что ты там рассуждал о частном секторе – ну так вот он.
– А я вас не стесню?
– Находясь в другой квартире? – Девушка улыбнулась. – Даже интересно, как вы себе это представляете.
Как по заказу, рядом с ними остановилась машина.
– Ладно, согласен. – Наклоняясь к опускающемуся стеклу, Вадим обернулся к девушке. – Какой адрес?
– Первостроителей, шестнадцать.
Усевшись, они понеслись по черным улицам.
Несколько раз свернув в темноте, они выехали на проспект; наклонившись к водителю, девушка показала ему, где остановиться. Выбравшись из машины, Вадим на секунду задержался, рассматривая подсвеченное тусклыми фонарями здание – носящее на себе следы противостояния конструктивизма и классицизма, длинным массивным кораблем оно возвышалось над улицей. Войдя в один из многочисленных подъездов, они поднялись на третий этаж, за тяжелой металлической дверью открылся длинный, уходящий в перспективу коридор, вдоль стены тянулись стеллажи с книгами. Пройдя вперед по коридору, девушка сняла с гвоздя висевшие около двери ключи и открыла дверь.
– Вот, пожалуйста. Я, конечно, не знаю, к чему вы привыкли…
Войдя вслед за ней, Вадим оглядел комнату со стандартной советской мебелью, заглянув за угол, он проверил наличие ванной.
– Платить что-нибудь надо? – на всякий случай спросил он.
С тонкой улыбкой опустив глаза, девушка секунду подумала.
– Можете купить для Ирины корм для кота. А то ей зарплату задерживают, мы все ей по очереди покупаем.
– А что он ест?
– Он… все время забываю, такие пакетики… Увидите – спросите.
– У кого, у кота?
– Нет, у Ирины. Вы еще всех увидите.
– Понятно. Как зовут кота?
– Прохор.
Кивнув, вдруг поняв, что ведет себя бестактно, он поспешно повернулся к девушке.
– Простите, а вас как зовут?
– Аля.
– Я Вадим.
– Очень приятно.
– Взаимно.
Секунду он поколебался, не уверенный, не обидит ли ее его шутка.
– А для вас какой-нибудь корм купить?
Девушка улыбнулась.
– Не надо. Вы сегодня уже достаточно купили.
– Хорошо.
– До встречи.
Дверь за ней закрылась, Вадим опустился на кровать.
Один. Еще раз оглядев комнату, подтянув к себе кейс и достав папку с документами, он, мгновенье поглядев на нее, отложил ее в сторону. Позже, подумал он. Не сейчас, позже, когда я буду не такой бессмысленно бодрый, как сейчас, когда отупею чувствами, когда буду готов воспринимать все это, ближе к ночи. Звучит глупо, здесь всегда ночь, но позже, когда мои собственные биологические часы покажут ночь. Когда от чтения всего этого меня начнет клонить ко сну. А сейчас… Не быть одному. Ни минуты не быть одному. И быть общительным. Со всеми вступать в диалог и со всеми разговаривать. Что она там говорила про какие-то площадки для общения? Вот пойду сейчас туда и буду общаться. И горе тому, кто встанет на моем пути.
Вновь открыв кейс, он достал и разложил те немногие вещи, которые у него с собой были; проходя мимо полки с книгами, он на мгновенье остановился у нее.
Собрание сочинений Мельникова-Печерского, подшивка журналов «Химия и жизнь» за 1968 год, книга Г. Облыжного «Маоизм – опасность для человечества», «Винни-Пух», сборник «Ленин и шахматы» (Вадим заглянул в книгу, нет ли там записей партий вождя, но таковых не оказалось), двухтомник «Записки аквалангиста» (из серии «Свидетели великой эпохи»), брошюра «Скажи наркотикам „нет“», сборник издательства Высшей школы экономики «Инвестиционные перспективы Российской Федерации», «Томек у истоков Амазонки», «Томек в стране кенгуру»… Альтернативы общению не было. Поправив покрывало на кровати и бросив ключ на стол (каким-то сверхчувствительным прозрением он понял, что дверей здесь не запирают), он вышел в коридор.
Книжные полки тянулись вдоль стены. Заставленные разнообразными собраниями сочинений, в том числе и русских классиков, включая второстепенных (краем глаза он заметил фундаментально-многотомные дореволюционные издания Якова Буткова и Атавы-Терпигорева), местами они заметно прогибались под тяжестью вросших в них томов. Преодолев секундное искушение остановиться и рассмотреть их поподробнее (с усмешкой подумав, что в этом случае он, как черепаха в апории Зенона, точно никуда не дойдет), он, отвернувшись от стеллажей и быстро миновав несколько дверей квартир, вышел на обещанную девушкой площадку.
Сидевшие на толстом ковре среди разбросанных подушек рядом с низеньким журнальным столиком худощавый седеющий мужчина лет пятидесяти и две девушки – как на подбор, худенькая и по-кустодиевски яркая – с любопытством обернулись в его сторону.
Поставив чашку с чаем на столик, мужчина с улыбкой, изображавшей живейшую радость и удовлетворение, вновь обратился к Вадиму.
– А вот, по всей видимости, и наш новый постоялец.
На ходу ответно проникаясь светскостью, Вадим сдержанно поклонился.
– Надеюсь, постояльцу не возбраняется временно влиться в сложившийся здесь социум и… гм… – Он оглядел заваленный подушками ковер в поиске свободного места. Освобождая место, худенькая девушка быстро отбросила подушки. – …и сделаться сидельцем.
– Чур меня, – акцентированно осенив себя крестным знамением, Вадим опустился на ковер. – Знаете, крайне желательно было бы оформить эту мысль каким-то иным образом.
Мужчина понимающе улыбнулся.
– Судя по живости последней реплики, наш гость определенно принадлежит к миру бизнеса.
Подбирая под себя ноги, Вадим со вздохом кивнул.
– Определенней, чем иногда хотелось бы.
– Давно замечено, – тоном лектора произнес мужчина, – что представители бизнеса крайне аффектативно относятся к глаголу «сидеть» во всех его формах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вот близятся знамена царя Ада (лат.) – Данте, «Ад», песнь 34.