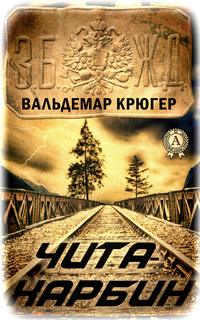Полная версия
За Рифейскими горами
Гнали машины из Ульяновска, заехали на Волгу к моему дяде. Он дал с собой соленых лещей, но предупредил, что рыба не усолела, может испортиться. Так оно и получилось.
Со мной были еще два настоящих сибиряка, коренных, ни как я. Когда я хотел лещей выбросить, их возмущению не было предела. С ума сошел что ли, такую вкуснятину.
Как они эту рыбу ели, с каким аппетитом, кто бы видел.
Но сибиряки могут не стесняться ее кушать. В Швеции такая же традиция. Там специально «тушат рыбу», закладывают ее затем в консервные банки и продают втридорога, как «национальное блюдо». Нужно отметить, что часть шведов возмущаются и желают запрещения продажи и употребления таких консервов, что мол иностранцы о нас подумают, другая же часть, кушают «рыбу с душком» всей семьей за праздничным столом. И правильно делают. Традиции и особенности национальной кухни нужно беречь.
Так что верно сделали тогда мои попутчики Володя и Илья, поедая волжских подпорченных лещей на сибирский манер.
Ашпуровы тоже кушали «рыбу с душком», как и другие жители Чаловки. Сибиряки ведь, и не какие-нибудь лыковые, а настоящие.
Сибиряки вообще любят рыбные блюда. Жители деревни Чаловки не являлись исключением из правил. Они ловили всякую рыбу, от хозяина водной стихии, могучего красавца тайменя, до самого маленького представителя – речного гольяна.
Но под таким наименованием, эту действительно маленькую, невзрачную рыбку, в Чаловке никто не знал. Здесь все ее звали мунькой. Возможно название рыбы происходило из языков коренных народов Сибири, по-якутски например эта рыбка зовется «мунду», что в общем-то не так уж и важно.
Интересен способ приготовления этой мелкой рыбешки. Из нее удаляются, выдавливаются пальцем, только внутренности, голова же остается. Жарят в сковороде с яйцами, и поедают затем как есть. С рыбьими косточками и головой.
Хотя настоящие рыбаки гольяна и за рыбу не считают, и отлавливают его только ради наживки для хищных рыб.
Хватит пока про рыбу рассказывать, Захар и Матюша уже управились с обедом и собираются идти в лес.
Неспроста сегодняшним утречком Захар выстрогал две лопатки. Матюша увидев их закричал во весь двор задорным детским голосом, напугав даже задиру-петуха.
– Деда, ты и мне тылзен[62] сделал?
– Конечно же, или ты не хочешь копать?
– Ну ты деда и даешь, конечно же хочу. Пойдем скорее.
– Сейчас, только дом закрою.
Ашпуровы, как и все и другие жители деревни Чаловки дома на замок не запирали. Первое – замков у них просто-напросто не было, второе, что собственно говоря должно бы стоять на первом месте, так было здесь принято испокон веку.
В клямку[63] входной двери втыкалась небольшая щепочка, которая сигнализировала посетителю, что хозяев в этот момент нет дома. Вот и вся арифметика.
Про воровство не могло быть и речи. Если какой воришка в деревне и появлялся, то он должен был чувствовать себя счастливчиком, не пойманным с поличным местными мужиками. Судебное расследование проводилось ими по одному принципу: «хозяин – тайга, медведь – прокурор». В общем ясно. Коли жив остался, ноги в руки, и бежать из той деревни.
В некоторых отдаленных сибирских деревнях по сей день осталась такая практика. Имеется ввиду клямка с замочком-щепочкой, да и выражение «хозяин-тайга» тоже не кануло в лету.
Захар и Матюша, вооруженные «камасинским шанцевым инструментом» двинулись в путь. Старый пес Полкан вызвался сопровождать хозяев. То ли прискучило ему лежать без дела возле пропахшей известным запахом дощатой конуры, то ли он решил на время избавиться от докучливого задиры-петуха. Принятое собакой решение пришлось петуху явно по его куриной душе. Задрав голову, украшенную таким красивым гребнем, хвастунишка возвестил звонким кличем на всю округу о мнимой победе. После чего занялся насущными обязанностями. На то и петух во дворе, чтобы куры яйца несли.
Сосновый лес начинался сразу за околицей деревни. Стройные сосны устремлялись светло-желтыми стволами прямо в синеву неба. Их темно-зеленые кроны смыкались, образуя собой один сплошной шатер. Захар оглянулся последний раз на деревню, перед тем как исчезнуть в зеленом царстве тайги. Над обширными деревенскими огородами Чаловки поднималось дрожащее марево начинающейся жары и все живое искало себе спасительную тень, только одинокий копчик скользил в поднебесной вышине. Деревянные крыши домов, амбаров, сараев и прочих строений, чернели среди зелени огородов, простроченных покосившимися изгородями. Голубая лента Агула терялась на горизонте среди прибрежных кущ. Довольно хмыкнув, Захар поспешил за Матюшей и Полканом в сосняк.
Под покровом леса царила приятная прохлада. Полуденная жара, как отрезанная, осталась за спиной старого камасинца. Захар вдохнул полной грудью свежий воздух, напоенный ароматами хвои и улыбнулся во все лицо. Хорошо-то как, Господи!
В дремлющем лесу раздалась трель неутомимого дятла. А вот он и сам, лесной доктор. Порхнул среди деревьев и уселся на старую осину, невесть бог откуда взявшуюся в сосновом бору. Красная шапочка дятла замелькала в такт зачастивших ударов. Захар улыбнулся еще раз, вспомнив про ту поваленную осину с дуплом, где он нашел камасинское сокровище и огладил рукой новенькие ножны с таким дорогим ему ножом. А дятел, не думая прекращать, долбил неутомимо, выбивая таежную чечетку. На стук дятла прилетела парочка поползней. Чего это он так расшумелся! Или нашел чего-нибудь вкусненького? Может и нам там поискать? Не взирая на близость все еще долбящего дятла, поползни забегали то вверх, к сухой макушке, то вниз головой к комлю терзаемой дятлом осины. Ну нет же ничего! Чего он гремит-то так?
Дятлу не понравилось назойливое знакомство пернатых соседей, и впорхнув, он исчез в чаще леса, ища себе другое дерево.
Захар и Матюша стояли все это время, молча наблюдая за этой самой обыкновенной сценой из лесной жизни. Именно от деда, научился Матюша такому поведению в лесу. Ты человек, являешься лишь небольшой частью всего того целого, ни больше, и ни меньше. Камасинцы, как и все другие коренные народы Сибири, жили всегда в гармонии с окружающей природой, не пытаясь возвыситься и покорить ее, как это позже пытались сделать «цивилизованные варвары». Захар, все камасинцы, руководствовались одним простым принципом: «живи и давай жить другим».
Это крылатое выражение имеется во многих языках мира. Некоторые приписывают его Шиллеру, употребившему его в «Лагере Валленштейна». Хотя и другие знаменитые немецкие писатели, как Шиллинг, Гёте или Фонтане, использовали его в своих произведениях. Скорее всего это выражение пришло из французского языка «laissez faire, laissez passer, трансформировавшись со временем в «vivre et laisser vivre[64]».
Все это не так уж важно. Важно другое. Для европейцев это выражение олицетворяло взаимоотношения между людьми. У камасинцев (калмажи) его действие распространялось не только на их народ (джӧн), но и на всю природу, от уважаемого ими прародителя дедушки-медведя (урхабам) до черемухового кустика (лем). Они всегда брали от природы ровно столько, сколько им было необходимо для их жизни, даже вернее их существования. У камасинцев никогда не было особых, да собственно говоря никаких материальных богатств. Они были нищи, но богаты духом. Они жили сегодняшним днем, радовались ему, как (в настоящее время) могут радоваться только дети с их чистыми душами, еще неоскверненными благами сегодняшней «цивилизации». Такое «упрощенно-естественное» отношение к жизни типично для многих индигенных народов. Его можно наблюдать от покрытой снегами Сибири до жарких тропиков Африки.
Но увы, «царь природы», этот двуногий венец цивилизации, наломал уже столько дров, взгромоздившись на вершину экологической пирамиды, что его девиз можно сформулировать как «жил, живу и буду жить за счет других». Вопрос, только долго ли еще?
Захар учил своего внука Матюшу другому. Водил по тайге, разъясняя и показывая маленькому камасинцу те немногие секреты, которые он помнил из короткого детства в стойбище, или же к чему пришел сам, по наитию.
Так и сегодня шли дедушка и внук по лесной тропинке и Матюша показывая Захару на деревья, перечислял их названия на камасинском языке.
– Вон растет тыдам[65], а рядом стоит джёё[66].
– Правильно Матюша. А вон какое дерево стоит? – спросил Захар, показывая рукой на молодую пихту.
– Ко! – выдал, не задумываясь Матюша.
– Ух ты постреленок, верно!
Матюша задорно засмеялся, радуясь успеху. Полкан, не принимал участия в экзамене «камасинского языка». Пока Захар забавлялся с внуком, он рыскал в кустах, называемых сибиряками «чапыжником», а камасинцами «нарга», вспомнив свое прошлое промысловой охотничьей собаки. Полкан не был чистокровной сибирской лайкой. Будучи плодом «внебрачной связи» лайки Ашпуровых, прошу извинить меня, с «соседским кобелем-дворнягой» Прошкой, он перенял как и некоторые черты промысловой собаки, так и пороки непутевого папеньки. Пока Полкан был молодой, он неплохо ходил на соболя, но если ему попадала шлея под хвост, то он мог провести целый день бездельничая, лежа в конуре в ожидании миски с похлебкой. Одним словом – Прошка.
Сегодня же в нем взыграли гены его родительницы.
Неспроста рыскал в кустах Полкан. В молодой поросли сосняка, березняка и десятка рябинок, скрывался выводок глухарей. Глухарка заметив опасность, пыталась отвести собаку в сторону. Заковыляв, таща за собой крылья, кособоко подпрыгивая, она уводила, заметившего ее пса от драгоценного потомства. Полкан, собрав в один комок все имеющиеся старческие силы, ринулся в преследование, грезя в мечтах о глухаре на полдник. Наконец и Захар заметил, что происходит что-то неладное. Прервав разговор, дед с внуком поспешили на доносящиеся из подлеска звуки. Глухарка отведя наивного пса подальше от спрятавшихся птенцов, шумно хлопая крыльями, взлетела буквально перед носом облапошенной ею собаки. Полкан громко залаял в оскорбленном отчаянии. Надо же так, дома этот задира-петух, здесь глухарка. Обвела вокруг носа, старого дурня!
Захар и Матюша наблюдавшие концовку этой сцены, задорно смеялись, радуясь удаче глухарки, и немножко сострадая дружищу Полкану.
Вдоволь насмеявшись, Захар просветил Матюшу, что, да как, рассказав, что в таком мелколесье тюйюн (глухари) выводят потомство, избегая тейе (большого леса), где они представляют легкую добычу для хитрого сили (соболя). Глухарь ведь птица тяжелая, особенно сюйму-тюйюн (самцы-глухари) требуют для подъема в воздух большую прогалину в лесу. Сегодня же кура-тюйюн (глухарка) водила собаку за нос, уводя ее подальше от выводка. Все это рассказал Захар внимательно слушающему внуку.
– А теперь давай-ка возьмем с собой Полкана, да уведем его отсюда. А то не дай бог, в самом деле найдет глухарят, да подавит еще.
Так они и сделали.
Они шли по тропинке, вьющейся лукавой змейкой среди вековых сосен. Стволы деревьев вздымались в небо, как мраморные колонны нескончаемого зеленого замка. Леcной воздух, пьянящий ароматом свежей хвои и целебной смолы, перемежался с запахом тлена, исходящего от толстого слоя опавших иголок, мелких веток, шишек и мха, покрывающего сплошным ковром все пространство между деревьями. Кругом царила та особенная тишина густого хвойного леса, не нарушаемая неумолкаемым шепотом круглых листочков осин и белоствольных берез. Полкан плелся следом, уже сожалея о том, что он покинул хозяйское подворье и мечтал лишь об одном – скорее бы вернуться домой.
Через полчаса троица вышла на прогалину, где под сенью леса виднелись последние отцветающие саранки, являющиеся целью сегодняшней вылазки деда и внука Ашпуровых.
Саранка, это особенное растение. Для лесных кочевников она стояла в одном ряду с черемшой, этим первым сибирским овощем. Камасинцы были кочевым народом не знающим земледелия. Лесные дебри Саян являлись их родиной.
То, что они не занимались земледелием, привело в итоге к трагическому финалу. Они перестали существовать как народ, отчасти вымерев, отчасти смешавшись с енисейскими кыргызами и русскими. Ведь не секрет, что именно земледелие послужило катализатором в развитии человечества, оно смогло перекрыть сезонные колебания в добывании хлеба насущного, даже в этом крылатом выражении, ядром является слово «хлеб», что всему голова. Это действительно золотые слова.
Камасинцы жили большей частью впроголодь. Первые европейцы, посетившие в XVII–XVIII веках их кочевья, были поражены страшной нищетой. Тому было много причин. Оттесненные вглубь тайги енисейскими кыргызами, они были вынуждены вести такой образ жизни. Эта была извечная борьба за выживание. Камасинцы были обложены непомерным бременем ясака, они были обязаны поставлять своих лучших сынов ненавистным кыргызам для их армии, своих лучших дочерей отдавать в жены бекам и всевозможным князькам.
С приходом русских ситуация мало изменилась, к тому же численность камасинцев к тому времени упала до катастрофического уровня в 500 человек. Судьба камасинского народа была предрешена. Платя ясак царю и обираемые до нитки барыгами-купцами, которые принесли в собой в Сибирь «огненную воду», спаивая этим чертовским зельем доверчивых аборигенов, камасинцы, как и другие малочисленные коренные Сибири, отступали все дальше вглубь тайги, пока их последние костры не были потушены эпидемией оспы, уничтожившей остатки этого когда-то гордого народа, имевшего славу считаться лучшими охотниками Сибири.
Не имея навыков в земледелии, камасинцы, как и другие саянские самодийцы, отлично разбирались в различных съедобных растениях и кореньях. Как уже было сказано выше, саранка занимала в их питании особое место, что нашло выражении в наименовании месяца мая, время цветения саранки – «кызар-ай», что дословно переводится, как месяц цветения саранки. Все месяца в календарном году (пуе) носили название, отражающие их главную суть, например октябрь – «алдыр- ай[67]» – пора охоты на соболя.
Вообще любопытно формирование и использование слов в камасинском языке. Во всех языках мира есть слова имеющие много значений, точнее говоря, обозначающих одним словом совершенно различные предметы. Камасинский язык не является исключением. Например, слово «тэву» обозначает, как ствол дерева, так и устье реки. На этом примере наглядно видно представление камасинцев о окружающем их мире. Для них дерево, с его развилистыми ветвями и корнями, и река, собирающая на своем пути множество речек и ручейков, и впадающая в итоге в большую реку, одно и то же. Если подумать, то в этом кроется затаенный смысл, во всяком случае понятный тем народам, для которых вся природа, от деревца до устья реки представляет собой одно единое целое и разрушение одной маленькой части из творения природы, означает в итоге погубить все.
Исходя из этого камасинцы брали у природы ровно столько, сколько им было необходимо для их существования. Они действительно жили по принципу «Живи и давай жить другим».
За то время пока мы сделали небольшой ракурс в особенности камасинского языка, Захар и Матюша накопали уже с десяток луковиц саранки, именуемой камасинцами – тугул. Деревянные лопатки-тылзен, изготовленные утром Захаром, пришлись очень кстати. Луковицы саранки сидят глубоко в земле. Их не так-то легко извлечь наружу. Одно хорошо. Во время цветения саранки, ее можно легко найти по красивым темно-красным или фиолетовым цветкам, возвышающимся над цветущим разнотравьем. Ее цветки могут различаться по окраске от светло-сиреневого до темно-красного цвета. Черные крапинки, и в особенности загнутая форма лепестков, подарили этому цветку множество других названий. Лилия кудреватая, таково ее правильное название. Сибирская саранка звалась в старину на Руси – царские кудри. В Германии были не так патриотичны в выборе названия, или же, у немецкого кайзера не было кудрей. На немецком языке это растение зовется «Türkenbund», что переводится как «тюрбан», что по форме и пристрастию правителей Востока к ярким краскам, вполне соответствует действительности.
Камасинцы конечно же не знали о таких цветастых названиях, как царские кудри, или паче того – Türkenbund-тюрбан. Они мало интересовались надземной частью саранки, предпочитая ее подземную часть, луковицу-тугул, которая имела большое значение в питании коренных народов Сибири. Луковицы саранки употреблялись не только в сыром виде. Их пекли в золе, сушили впрок и готовили из них муку, употребляя позже, в зимнее время, для приготовления детского питания. Уже знакомые нам енисейские кыргызы использовали саранку, как приправу к овечьему сыру. Русские переселенцы пришедшие в Южную Сибирь в XVII веке переняли эти традиции. Крестьянские дети грызли по весне, восполняя запас витаминов, истраченных за долгую сибирскую зиму, выкопанные ими луковицы саранки еще и в XX веке. Я и сам пробовал этот «сибирский деликатес» в сыром виде. Добывал его с моими сверстниками, такими же приятелями-сорванцами, за неимением лопатки-тылзен, ковыряя в крепком дерне сломанной веткой. Фортуна редко была на нашей стороне. Многие луковицы были слишком глубоко в земле. Добытые же, по вкусу, скажем так, на безрыбье и рак рыба. Но о вкусах не спорят.
Захар и Матюша добыв в итоге по дюжине луковиц, отправились в обратный путь. На этот раз они взяли ту тропинку, по которой шли ранним утречком наши три юных рыбака в самом начале книги.
У подножия горы Кияшки, среди нагроможденных груд камней, знал Захар одно местечко, где произрастал золотой корень. Каждый год ходил туда Захар, чтобы заготовить на зиму это чудесное растение. Ему неспроста приписываются целебные свойства. Сибиряки с незапамятных пор имели его в домашней аптечке, применяя при лечении кожных, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза легких, переломов костей и многих других болезнях, ценя как благотворное общеукрепляющее средство.
Из корневища золотого корня жители тайги готовили, как спиртовую настойку, так и сушили мелко нарезанные корневища в тенечке, готовя из них в зимнее время целебные отвары.
Захар Ашпуров готовил настойку испытанным деревенским способом – на самогоне. Зимой, когда трескучие морозы и вьюжные метели загоняли старика в дом, употреблял он ежедневно по одной-две капельки заветного зелья. Конечно же не все старческие хворобы исчезали как по мановению волшебной палочки, но Захар чувствовал себя намного свежее и бодрее, и за замерзшим оконным стеклом, разрисованным причудливыми зимними узорами, мерещилась старику грядущая весна с ее первой звонкой капелью.
Захар и Матюша пробирались по узкой лесной тропинке, перевитой выступающими корневищами сосен. Свисающие ветви с царапающимися иголками смыкались над их головами, норовя стянуть с человека последнюю рубаху, подтверждая этим, что тайга не только согревает и дает приют заплутавшему страннику, а раздевает и разувает иного двуногого гостя. Полкан с его пышной шубой мог по этому поводу не расстраиваться. Он плелся следом по тропинке, давно забыв о ускользнувшей глухарке, мечтая лишь о том, как бы скорее попасть на родимый двор с задирой-петухом.
Такова она наша грешная жизнь. Что имеем не храним, потерявши плачем. Так что терпи Полкан.
Собака, словно услышав ободряющие слова, оживилась, и обежав по опавшей хвое Захара и Матюшу, потрусила впереди них легкой рысцой по лесной тропинке. Неожиданно она остановилась. Уши дворняжки встали торчком, внимательно вслушиваясь в только ей внятные шорохи. Матюша заглядевшись, по неосторожности налетел на остановившуюся собаку, Захар соответственно на Матюшу, почти как в сказке «Репка», в точности наоборот.
Развеселившийся Матюша обернулся к дедушке, пожав извиняюще плечами, что это мол Полкан зазевался. Захар же отреагировал совершенно по-иному. Он стоял, вслушиваясь в тишину летнего леса, пытаясь определить, что же могло послужить причиной беспокойства собаки. Жизнь в тайге научила его осторожности. Там ты можешь положится только на себя и твоего верного четвероного друга. Полкан все еще стоял, как вкопанный, втягивая вздрагивающими от возбуждения ноздрями какой-то неведомый, чужой запах. Захар напрягся. Они были недалеко от деревни, но все же. Нынешним летом мужики уже видели медвежьи следы неподалеку от этого места. Не хватало еще без ружья, с малым дитем, напороться на медведя. Черт меня дернул взять эту тропинку. Никуда бы золотой корень не делся. Сходил бы завтра, али еще когда.
Все эти мысли пролетели в голове старого камасинца в несколько мгновений, пока Полкан не удостоверился в предположениях и расслабив сжатое в пружину тело, завилял дружелюбно хвостом, давая понять, что приближающее к ним нечто не представляет опасности.
Фу, пронесло! Захар отер рукавом рубахи вспотевший лоб. Никак люди по тропе идут. Вишь Полкан как хвостом-то наяривает!
Словно в подтверждение словам Захара, послышался хруст веток под ногами приближающихся к ним путников и минутой позже на небольшую лесную прогалину вышли два человека. Они тоже были удивлены неожиданной встрече. Полкан выбежал вперед, облизал руки шедшему впереди суховатому старичку с посохом и встав на задние лапы пытался лизнуть ему лицо. Старик был тоже рад видеть нечаянно встреченных старых знакомых. Его попутчиком была скромная старушка. В ее руках находилась ивовая корзинка из которой выглядывали пучки каких-то трав. Одета она была так, как одеваются русские женщины в деревнях. Длиннополая юбка, ситцевая кофточка и разумеется обязательный головной платок. Как же простоволосой за ворота выйти. Нет, нет, добропорядочная женщина такого себе не позволит. А встреченная нами на лесной тропинке бабушка была действительно уважаемой всеми односельчанами, от мала до велика, добропорядочной женщиной. В Чаловке ее величали – Марфой-целительницей.
Неспроста получила она свое прозвище. Ходила за Марфой слава по всем окрестным деревням, что излечивает она бескорыстно всякого приходящего к ней немощного и страждущего. Знает всякие целительные травы и коренья, из которых готовит целебные снадобья, порошки, притирки, отвары и еще только бог знает что. Слава та была, вне всякого сомнения, заслуженной. По достоинству звалась деревенская знахарка Марфой-целительницей. Много целебных трав знала эта умная, немногословная женщина. Сама собирала травки и коренья по окрестным лесам, зная все укромные места, где она может найти то, или иное растение. Попутчик ее, так любезно встреченный Полканом, не приходился Марье-целительнице ни сватом, ни братом, ни тем более мужем. Седовласый старичок, так бурно облобызанный Полканом, находился в деревне Чаловке на положении ссыльного вольнопоселенца.
Иван Никанорович Воротников проживал до высылки в Сибирь в столице Российской империи. Скромный фельдшер посещал нелегальный кружок, возникший после раскола организации «Земля и воля». Ничем особенным фельдшер Воротников не выделялся, сидя себе тихонечко на еженедельных сходках в уголке полутемной комнате особняка негоцианта Брегмана, где у керосиновой лампы, под аккомпанемент кипящего самовара бушевали пламенные речи революционных агитаторов, требовавших в числе прочего передачи земли крестьянам и заводов рабочим. Еженедельные сходки закончились одним зимним днем, когда по доносу провокатора, все члены кружка были арестованы полицией, и после скорого суда, отправились по тюрьмам да по каторгам. Фельдшеру Воротникову было сделано послабление. Как пассивному слушателю определили ему в качестве наказания ссылку в Сибирь сроком на десять лет. Так и попал фельдшер Иван Никанорович Воротников, как государственный преступник, пошедший «упротив царя-батюшки» в достославную деревню Чаловку. Поначалу местные крестьяне отнеслись настороженно к чужаку, первому «политическому» в их деревне, но со временем пообвыклись.
Ссыльный фельдшер жил на квартире у Марфы-целительницы. Так вот и получилось, как-то само собой, что в деревне Чаловке под одной крышей обосновались два целителя. Марфа-целительница, с устоявшейся репутацией деревенской знахарки, и городской «фельшер» Иван Никанорыч. Именно так звали его все в деревне. Многие говорили просто «фельшер». Оно и верно. Коротко и ясно.
Уже давно закончилась ссылка Ивана Никаноровича Воротникова и он мог бы вернуться в Северную Пальмиру. Но прикипел душой и телом к неприхотливому крестьянскому быту, оставшись в сибирской деревеньке навсегда. Да и не было у него никого родных в Петербурге. Стоит ли возвращаться к разбитому «народовольческому корыту»? Идеи российского народовольства разбились и в Чаловке о толоконные мужицкие лбы. Поначалу пытался Иван Никанорович просветить местных мужиков, в смысле – земля крестьянам. Мужицкая реакция его полностью обескуражила.
– Че ты толмачишь Иван Никанорыч, землю крестьянам? Да мы сами себе скоко нужно отрежим! Вон она родимая, вся нашенская!