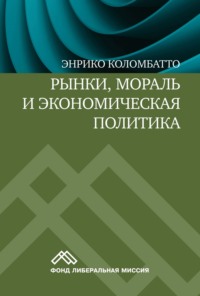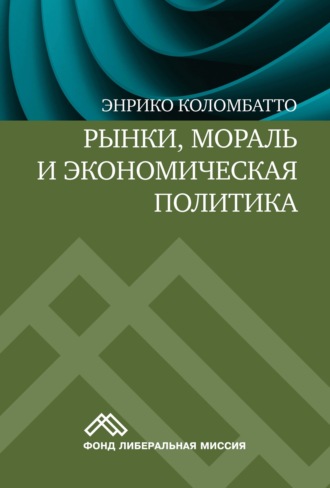
Полная версия
Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к защите экономики свободного рынка
Нужно признать, что, формулируя свои взгляды, институционалисты останавливаются в шаге от нормативных утверждений. Тем не менее их предложения перед нами – они доступны, видимы и противоречивы. Если экономист-теоретик, принадлежащий к институциональному направлению, признаёт, что большую часть рациональности человека должны формировать правила игры, и если индивидуальные предпочтения могут быть заданы институциональным контекстом, то такой ученый обязательно находится в двойной ловушке: он вынужден нападать на суверенитет личности во имя социальной добродетели или во имя эффективности (общее благо), и он же обязан отказывать демократическим процедурам в праве определять общую цель, коль скоро индивид может оказаться социально иррациональным и проголосовать, преследуя свои собственные интересы, а не так, чтобы это соответствовало критерию социальной рациональности (положение Веблена). В самом деле, почему нужно беспокоиться о выборе, если лицо, принимающее решение, заранее знает, что именно должно быть сделано? В конечном счете возникает впечатление, что благоразумие предполагает отказ от неудобных вопросов, что имеет свою цену: институционализм начинает объяснять, переставая понимать, институционалистская традиция становится детерминистской, а не нормативной.
Мы утверждаем, что в отличие от институционализма доктрина свободного рынка избежала попадания в ловушку Веблена. Как уже говорилось в этой главе выше, субъективизм и методологический индивидуализм буквально сплетены воедино с принципом человеческого достоинства: если отсутствует соответствующий явно сформулированный и добровольно заключенный контракт, никто не имеет права выбирать за другого или принуждать другого к следованию своим собственным предпочтениям посредством насилия. Это означает, что принудительные институты либо имеют низкую степень легитимности, либо не имеют ее вовсе, и что слабое государство де-факто не является проблемой: оно принято по умолчанию и игнорируется, когда функционирует неэффективно – либо потому, что не может предложить удовлетворительные институты, либо потому, что не может принудить к выполнению добровольно взятых на себя правил (добровольных институтов).
Положение, сформулированное Вебленом, истинно: любые правила всегда воздействуют на предпочтения людей. И что из этого следует? Вопреки тому, что считают некоторые авторы, пишущие в неоклассической и даже австрийской традиции, доктрина свободного рынка никогда не опиралась на утверждения о существовании неизменных, заданных лишь генетикой предпочтений. В действительности предпочтения всегда подвержены изменениям – из-за самого наличия неопределенности, из-за непрерывного приобретения знания в ходе процесса проб и ошибок, посредством которого мы адаптируем наше поведение и улучшаем результаты сотрудничества с другими людьми. Столетия назад некоторые авторы могли бы упорядочить разновидности этих изменений, исходя из существующей, как они считали, врожденной социальной природы человека. Сегодня некоторые, возможно, укажут на влияние средств массовой информации и системы образования или приведут какие-то новые аргументы, связанные с влиянием новых и подчас неопределимых природных факторов. Так или иначе, свобода получать и перерабатывать информацию нужна всегда. Конечно, ошибки случаются, и люди по-разному оценивают одни и те же вещи. Но ведь даже принятие того, что это возможно, представляет собой квинтэссенцию принципа индивидуальной ответственности, который, конечно, также предполагает, что никакой человек не имеет права обременять обязательствами других лиц (более умных или просто более удачливых), нарушать их право собственности и любые другие права без явного согласия этих других лиц.
Это объясняет, почему для свободного рынка по-настоящему значимым вопросом является вопрос о легитимности принуждения и в конечном счете о легитимности государства (с учетом той или иной разновидности государства). Будучи далеко не нормативным вопросом, различение добровольных и принудительных правил обеспечивает альтернативное решение проблемы, обсуждавшейся в ходе хорошо известной дискуссии о взаимодействии между формальными и неформальными правилами, каковая дискуссия занимала такое заметное место в литературе институционального направления как в последние годы, так и ранее[160]. Объяснительная мощь различения формального и неформального хорошо известна, но оно мало что дает за пределами формулирования того, что и так очевидно: формальные институты успешны, когда они не вступают в противоречие с неформальной структурой, которая обычно определяется как «культура». Таким образом, либо успешные формальные институты просто воспроизводят культурные обычаи и традиции, либо именно их эффективность вызывает некую разновидность культурного шока. Когда эти явления не имеют места, система начинает медленно «закипать» или демонстрировать открытый конфликт между правителями (реформаторами) и остальным населением.
Итак, будучи удовлетворительными лишь по видимости, вышеупомянутое различение между неформальными и формальными институтами, фиксируемое в литературе, не оправдывает возлагающихся на него надежд в двух отношениях. Во-первых, оно ничего не говорит о ситуациях, в которых нет никакого очевидного конфликта между разными наборами правил, но в которых экономика не работает с ожидаемой эффективностью. Во-вторых, в рамках этого подхода утверждение, согласно которому целью разработки и принятия формальных правил всегда является увеличение экономической эффективности, принимается без доказательств, при этом, похоже, полностью игнорируется существование цепочек непредвиденных последствий, которые довольно быстро выходят из-под контроля. Предложенное в этой главе разделение институтов на добровольные и принудительные дает возможность получить ответы. В действительности главный институциональный вопрос состоит не в том, откуда появились правила, и не в том, соответствуют ли они существующей культурной среде. Главный вопрос состоит в том, чтобы установить, в какой мере правила позволяют индивиду создавать и модифицировать соглашения о сотрудничестве, а в какой мере правила являются инструментами для получения привилегий. Это не отменяет возможности того, что общественный договор может быть структурирован так, чтобы включать и сотрудничество, и погоню за бюрократической рентой. Как будет подробно рассмотрено в следующей главе, в ситуациях, когда применяются общественные договоры, свободный рынок требует, чтобы они либо были явными, либо чтобы они были снабжены оговорками, позволяющими осуществить выход из договора с низкими издержками.
Глава 5
Общественные договоры и исторические нормы
5.1. О производстве, надежности и стабильности норм
Наш мир несовершенен. Демократии часто испытывают негативное воздействие несовершенных норм, введенных в действие недальновидными политиками, большинство из которых не знают, о чем говорится в принятых ими законодательных актах, но которые готовы вписывать туда все, что потребуют группы интересов, и удовлетворить тех или иных представителей избирателей или просто достаточно шумные слои населения. Школа общественного выбора, применившая постулат о рациональном выборе, применяется к лицам, создающим законы, говорит нам, что это вовсе не удивительно. Политики – это такие же люди, как и все остальные, и процедуры, с помощью которых они избраны, не дают им повышенной честности, не говоря уже о повышенной степени альтруизма. В этой сфере процесс отбора действует скорее в противоположном направлении. Независимость мышления здесь не является плюсом, выступая подчас помехой. Словом, творцы правил вполне рациональным образом склонны действовать так, чтобы создаваемое ими законодательство увеличивало их собственное благосостояние. Они делают все, что нужно для достижения и поддержания консенсуса, для увеличения популярности, для сохранения репутации, словом, все то, что требуется для избрания, переизбрания или назначения на должность. Во многих случаях партийная лояльность берет верх над последовательно моральной позицией, что сказывается и на качестве законов. Конечно, результаты законодательного процесса не всегда контрпродуктивны или разрушительны. Случается, что нормы согласуются со здравым смыслом и отвечают широко понимаемым интересам сообщества. Однако, даже если воздержаться от оценки качества правил, и даже в тех случаях, когда нет никаких проблем с финансированием соответствующих начинаний, нет никаких гарантий, что принятые правила будут применяться должным образом. Так, например, бюрократы частенько стремятся к тому, чтобы приспособить их к своим собственным требованиям и предпочтениям. Они могут также посчитать выгодным увеличение затрат, которые граждане несут в связи с получением защиты, положенной им в соответствии с той или иной нормой закона. Все это совершенно необязательно должно иметь формы какой-то невероятной преступности или коррупции. Иногда это простое увиливание: государственные служащие намеренно прибегают к задержке дел, либо умножают количество инстанций, разрешение которых является обязательным, – все это, чтобы избежать ответственности. Иногда перед нами просто попытки бюрократа расширить спектр дискреционных действий (т. е. тех действий, которые он осуществляет, руководствуясь исключительно и только своими собственными решениями. – Перев.) – в соответствии с присущим человеческой природе стремлением к престижу и власти или в соответствии с желанием создать дополнительный спрос на услуги, оказываемые бюрократами, что оправдает их работу и, возможно, даст шанс для продвижения по карьерной лестнице[161].
Источником неопределенности может быть также и сама правовая система – в тех случаях, когда акторы придерживаются своего собственного прочтения законов, самостоятельно устанавливая, что они значат на самом деле, либо когда они, указывая на те или иные особые обстоятельства, трактуют нормы законов в свою пользу. Учитывая, что большинство судебных процессов можно считать зависящими от «особых обстоятельств», применение одной и той же нормы закона вполне может генерировать разные исходы, подрывая тем самым доверие к этой норме, т. е. к ее способности обеспечивать ясное и последовательное указание на то, что является законным, а что нет, и служить достаточно точным ориентиром, позволяющим предугадывать будущее поведение[162]. Это явление усугубляется тем, что законодательство все в большей мере становится результатом компромиссов и практики взаимных услуг, которые политики оказывают друг другу, что выражается в растущей неопределенности текстов, полных лазеек и противоречий. Неудивительно, что такое качество законодательных текстов порождает богатые возможности для интерпретаций (а также потребность в них), превращая право тем самым в поле законодательного и правоприменительного сговора или войны[163].
Это явление становится еще более очевидным, если принять во внимание деятельность международных или наднациональных агентств, требующих корректировки национальных законодательств, что оказывается весьма нелегким делом, требует времени и вряд ли может обойтись без ошибок. Обычно с этими трудностями старается справиться судебная система, которая интерпретирует первоначальный замысел законодателя или делает отсылку к нормам более высокого уровня (например, к высшему конституционному законодательству) или использует общие принципы, сформулированные более или менее неопределенно. Хорошо известными примерами таких общих принципов могут служить понятия социальной справедливости, экономической (распределительной) справедливости и равенства. Важной чертой бюрократии является также и то, что именно бюрократы продираются сквозь сотни тысяч страниц новых законодательных норм, которые в любой достаточно развитой стране ежегодно производит мало-мальски «продуктивный» аппарат по производству законов. В этих случаях могут возникать неформальные правила поведения, которые со временем начинают играть решающую роль, поскольку каждое ведомство стремится пестовать отдельные правила и разрабатывать отдельные кодексы поведения, регулирующие повседневную деятельность своих сотрудников.
Какая бы конкретная структура не сложилась в результате этих процессов, их общий итог один и тот же: все вышеназванное приведет к возникновению противоречий и непреодолимых сложностей. Это создает пространство для дискреционных процедур по толкованию и прояснению ситуаций, что парадоксальным образом увеличивает спрос на следующие законодательные акты. В конце концов это обернется потерей доверия к законам как таковым, что приведет к потенциально контрпродуктивным последствиям. Прискорбно, но именно сейчас, когда прогресс технологий делает частный рыночный обмен между сторонами, имеющими частную природу, все более безличным и простым, как только мы переносимся в мир, где создаются и применяются общие законы и правила, мы видим, что здесь происходит нечто прямо противоположное.
Увеличивающаяся сложность и противоречивость системы законодательных и регулирующих норм неизбежно влияют на их стабильность. По мере того как обнаруживается, что старые нормы неэффективны или что они устарели, и по мере того как вследствие этого растет давление в пользу их реформирования, растущие ожидания мер экономической политики подталкивают законодателя к тому, чтобы предпринимать действия во множестве сфер предположительно существующего общего интереса, каковые действия, о какой бы конкретно сфере ни шла речь и как бы ни определялись эти действия (экзогенно или эндогенно), неизбежно затрагивают, причем затрагивают очень сильно, достаточно большую часть электората. Следовательно, растет неопределенность в отношении того, какие именно действия будут предписаны правилами в будущем, а также учащаются проявления оппортунистического поведения. Все это сокращает период планирования, который экономические агенты имеют в виду, составляя свои планы. Неопределенность не только понижает дисконтированную ценность потока будущих доходов, что при прочих равных негативно воздействует на экономический рост[164]и личное благосостояние граждан, но и побуждает многих экономических агентов искать возможности для заключения контрактов, полагаясь на грядущие реформы, которые будут предусматривать принуждение к исполнению контрактов, устанавливаемое задним числом (либо будут содержать критерии апостериорного принуждения). Такие агенты ставят на конфликт с другими сторонами контракта, каковой конфликт может возникнуть рано или поздно. Все это вносит вклад в разрушение системы координации и, возможно, также и в подрыв надежности структуры прав собственности.
5.2. В поисках конституционных решений
Все вышесказанное показывает, что даже когда законодатель трактует принцип верховенства права в соответствии с традиционным смыслом этого понятия, т. е. понимает под системой права систему заслуживающих доверия, непротиворечивых и стабильных принудительных правил, которую люди считают справедливой и эффективной[165], все это все равно опирается на довольно шаткое основание. Вместе с тем значительная часть профессионального сообщества экономистов полагает, что необходимо найти решение этой проблемы.
Согласно традиции ордолиберализма[166]большинство экономистов принимают без доказательства тот факт, что рецепт экономического процветания представляет собой некую смесь из экономической свободы (более или менее жесткое принуждение к соблюдению права собственности) и перераспределения во имя социальной справедливости и социального мира, куда нужно добавить некоторое количество норм регулирования экономической деятельности, зависящее от убеждений составителя рецепта в значимости и масштабах так называемых провалов рынка. Далее, все множество рецептов можно разделить на две группы. Для одной группы характерна неоклассическая ориентация. Она делает упор на разработку и внедрение подходящего институционального контекста, который требуется для того, чтобы следовать рекомендациям составителей проектов оптимальной экономической политики, и для осуществления необходимых для этого мероприятий, известных как тонкая настройка. Вторая группа принадлежит к традиции классического либерализма. Ее участники воздерживаются от рекомендаций конструктивистского толка, согласно которым нужно срочно начать осуществление разнообразных масштабных программ. Напротив, эти авторы концентрируются на принципе верховенства права, считая его единственным значимым операциональном механизмом. Они трактуют спонтанную эволюцию[167]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Возможность такого развития событий ранее была предсказана Хиггсом (см. [Higgs, 1987]). См. также [Smith et al., 2010], где предвидение Хиггса проиллюстрировано двумя примерами: недавно принятой программой спасения проблемных активов (Troubled Assets Relief Program) и законом о восстановлении национальной экономики периода Нового курса (National Industrial Recovery Act).
2
См., например, [Taylor, 2009].
3
См., например, [James, 2009].
4
Мошенничество осуществлялось множеством способов. Так, в частном секторе менеджеры и аудиторы зачастую подделывали отчетность или лгали о качестве активов компании. Администрация организаций госсектора намеренно пускалась в игры с секьюритизацией, с тем чтобы удовлетворить маркетмейкеров, которые затем возвращали этот своеобразный долг, облегчая улучшение рейтингов проблемных заемщиков, осуществляя реструктуризацию их задолженности и ослабляя краткосрочные финансовые ограничения.
5
Так, согласно работе [Akerlof and Shiller, 2009: 72], «непосредственные причины кризиса субстандартных закладных можно свести к дефектам современной системы страхования вкладов». По их мнению, решение состоит в создании монетарно-фискальных стимулов, достаточно масштабных для того, чтобы добиться полной занятости. Для восстановления доверия необходимо также объявить о гарантированных государством гарантиях платежеспособности финансовой системы [ibid., 96]. С другой стороны, в Европе многие авторитетные фигуры дошли до того, что обвиняют Америку в инициировании кризиса и чрезмерной глобализации в его распространении. Схожие упражнения в логических вывертах и скверной экономической теории мы видели за несколько лет до этого, когда на китайцев возлагали вину за более высокие показатели роста их экономики, а глобализацию обвиняли в том, что она позволила азиатским компаниям конкурировать с западноевропейскими, замедляя тем самым темпы роста и создавая безработицу в странах Западной Европы.
6
Дискреционными называются права и полномочия лица или органа, позволяющие ему осуществлять действия по собственной инициативе, без каких-либо разрешений вышестоящих лиц, органов или других ветвей власти и без согласования с ними. – Прим. науч. ред.
7
Консеквенциализм – широкий класс этических учений, в который входит утилитаризм, этический (философский) эгоизм, доктрины социального альтруизма и др., объединенных идеей, согласно которой суждение о моральности действия выводится из его результатов (последствий). Противостоит деонтологическим этическим доктринам, утверждающим, что моральность действия должна устанавливаться применительно к действию как таковому, вне зависимости от его результатов. – Прим. науч. ред.
8
Превосходный пример такого подхода, относящийся к международной проблематике, представляет собой работа [Eichengreen, 2007].
9
Этот вывод подтверждается при первом же взгляде на то место, которое отводится методологическим проблемам экономической теории в предметных перечнях разделов экономической науки, обязательных для изучения студентами и аспирантами в большинстве университетов по всему миру.
10
Этой точкой зрения мы в значительной мере обязаны Альфреду Маршаллу, который писал в «Основах политической экономии»: «Политическая экономия, или экономическая наука (Economics), занимается исследованием нормальной жизнедеятельности человеческого общества; она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния» (Маршалл А. Основы экономической науки. М.: ЭКСМО, 2007. С. 59). Путь к этому пониманию, а также оба неявных предположения, подразумеваемые в этой формулировке, образуют главное содержание глав 2 и 3 настоящего труда.
11
Основательный анализ недостатков методологии институционалистской исследовательской программы см. в [Langlois, 1989]. В главах 4 и 5 обсуждаются основания институционализма и обоснованность всего институционалистского контекста, тогда как глава 7 посвящена экономике транзакционных издержек. Во всех этих главах господствующий в экономической науке консеквенциалистский подход сопоставляется с пониманием экономики, основанном на концепции свободного рынка.
12
«Экономика сложности» (complexity economics) – совокупность методов, которые, как считают экономисты этого направления, позволяют использовать аппарат моделирования сложных динамических систем для воспроизведения эмоциональных реакций участников рынка. – Прим. науч. ред.
13
Схожие мысли обнаруживается у проф. Лоренцо Инфантино (см. [Infantino, 2010]), который считает, что коль скоро действие предполагает изыскание [ограниченных] средств, то такое действие с необходимостью приобретает экономическое измерение. Некоторые экономисты, являющиеся сторонниками свободного рынка, и прежде всего экономисты австрийской школы, могли бы заключить, что акцент, делаемый нами на проблеме социального взаимодействия, превращает процесс формирования индивидуальных предпочтений в проблему вторичной значимости. Как будет объяснено в главе 3, данная книга предлагает иной взгляд на эту проблему.
14
Усилия, заслуживающие наибольшего внимания, предпринял Фридрих Хайек, однако и ему не удалось найти ответы на вопросы, поставленные Вебленом, предварительные решения которых дал Карл Менгер.
15
Менгер определял прагматические институты как институты, созданные специально, т. е. как такие, которые появились в результате осознанной реализации человеческого замысла (примером могут служить разработанные и принятые законы). Органическими Менгер называл такие институты, которые, подобно обычаям, рождаются спонтанно, развиваются с течением времени, могут поддерживаться и даже, возможно, постепенно совершенствоваться (сюда относятся такие феномены, как язык, деньги, привычки).
16
В отличие от прагматических органические институты обычно эволюционируют постепенно и по своей природе оказывают весьма ограниченное воздействие на то, каким образом люди воспринимают реальность. Это влияние ограниченно, но оно имеет место: так, грамматика языка, на котором мы говорим, воздействует на структуру нашего мышления (см.: Lera Boroditsky. Lost in translation // Wall Street Journal. 23 July 2010]).
17
Слово «мораль» означает разные вещи. Исследование терминологии выходит за рамки нашей задачи. Тем не менее, хотя мы осознаем, что возможна иная классификация понятий, мы проводим различие между этикой, моралью и естественными правами. Под этикой мы понимаем правила, которыми, как полагает индивид, он должен руководствоваться в ходе своей жизни, стремясь жить достойно. Это, разумеется, предполагает, что индивид имеет представление о том, каково содержание понятия «достойная жизнь». Говоря «мораль» (или нравы), мы имеем в виду поведенческие правила, принятые и почитаемые в том сообществе, к которому принадлежит индивид (см., однако, сн. 12 и 26 к главе 3 настоящей книги). Наконец, мы определяем естественные права как базовые ограничения, которые, по мнению индивида, присущи всем человеческим существам и неотчуждаемы – ни в отношении его самого, ни в отношении других людей. Соответственно этика определяет, как индивид ведет себя в обществе, тогда как мораль лежит в основе всякой общественной договоренности. Таким образом, и этика, и мораль с необходимостью изменяются во времени и от общества к обществу. С другой стороны, у разных индивидов могут различаться представления о естественных правах – в зависимости от их религиозных и философских наклонностей. Однако в рамках данных религиозных и философских ограничений они вечны и неизменны, поскольку вечна и неизменна сущность индивида.