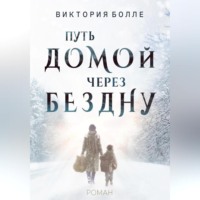Полная версия
Путь домой через бездну
Краем глаза я следил, как он поднёс сигарету к губам, зажёг её спичкой, которую я ему тоже дал, и сделал глубокую затяжку. Он сразу же начал ужасно кашлять и плеваться.
– Всегда хотел попробовать, каково это, и теперь понимаю, что это отвратительно, – сказал он, закашливаясь.
Я слабо улыбнулся, находя его неудачную попытку курить забавной.
– Как тебе это может нравиться? – возмутился господин Хорст. – От леденца больше толку: он сладкий и вкусный. С этими словами он бросил сигарету в снег и положил в рот леденец. – Так уже гораздо лучше.
Он сосал леденец и время от времени наблюдал за мной, пока я затягивался сигаретой. При выдохе дым струился из моих ноздрей. Господин Хорст усмехнулся.
– Возвращайся, – попросил он. – Брось эти курсы, закончи школу. У тебя будут лучшие перспективы.
Я снова затянулся и выпустил дым из ноздрей.
– Ты меня слышал? – повторил господин Хорст, не дождавшись ответа. – Возвращайся в школу.
Я смотрел вдаль, где не видел ничего, кроме огромных масс снега, затем покачал головой.
– Я никогда не вернусь.
– Но, Ваня, – протестовал мой бывший учитель истории. – Подумай хорошенько. Аттестат важен.
– Я уже всё обдумал, – резко ответил я. – А теперь мне нужно возвращаться на занятия.
Весной я с отличием сдал экзамен на тракториста, но водительское удостоверение сразу не получил. Мне пришлось ждать год, пока не исполнится шестнадцать. Таковы были правила.
Тем временем я работал помощником на поле. Пока мой коллега управлял дизельным трактором С65, я шёл за ним и поправлял бороны, если они застревали в земле. Работа была нелёгкой, но лучше, чем ничего.
Когда в феврале 1941 года мне наконец исполнилось шестнадцать, я получил долгожданное водительское удостоверение и стал работать трактористом на поле. Мне выдали колёсный трактор со шпорами и двумя деревянными прицепами, на котором я перевозил зерно от комбайнов в ток для дальнейшей переработки.
Через несколько месяцев события приняли ужасный оборот. В совхоз прибыли беженцы, в основном евреи. Они рассказывали о страшных вещах, вселявших в нас ужас. Мы предчувствовали, что надвигается что-то недоброе.
Летом 1941 года до совхоза дошла ужасная весть: Третий рейх напал на Советский Союз, и началась война. В том же месяце военные окружили деревню. Они собрали всех в общественном здании и объявили указ Верховного Совета о депортации всех немецких поселенцев.
– У вас есть время до завтра 10:00 утра, чтобы собрать свои вещи и явиться на вокзал. Разрешается взять только легко транспортируемое имущество: никакой мебели, никакого скота и не более пятидесяти килограммов груза. Возьмите немного воды, одежды и еды, – объявил офицер встревоженной толпе.
Больше никаких объяснений не последовало.
Эта новость поразила нас всех. В одно мгновение мы были вынуждены оставить всё и сесть в поезд, который увезёт нас в неизвестное, далёкое место.
День, когда мы сели в поезд, стал последним днём моего детства. Мы были вынуждены оставить многое, особенно скот: коров, телят, свиней. Лишь немногие взяли с собой гусей, кур и уток, потому что их было легче транспортировать.
На вокзале нас ждал огромный поезд, состоявший минимум из восьмидесяти товарных вагонов, прицепленных к нескольким локомотивам. Повсюду стояли вооружённые военные и следили за происходящим. Они строгим тоном указывали испуганным людям, куда идти, запихивали их в переполненные вагоны, кричали и толкали их прикладами. Зрелище напоминало перегон скота, а не перемещение людей. В их глазах читались презрение и ненависть.
Мой отчим, работавший комбайнёром, незадолго до этого пережил серьёзный несчастный случай. Из-за поднявшейся пыли на полях радиатор машины, на которой он работал, забился. Он сам открыл люк, чтобы проверить степень засорения и, возможно, долить воды, когда на него хлынула едкая жидкость, обжигая грудь.
Его травма не стала причиной для отсрочки высылки. Единственное, чего мы добились, это того, что нас отправили последними, в то время как остальные поселенцы уехали раньше. Их путь привёл их в другое место, чем нашу семью. Мы были разлучены с теми, кого любили и кто был нам дорог. Мой дед, дядя Фёдор с семьёй, мои тёти Анна и Мари-Лизбет – все они были отправлены в Сибирь, тогда как мы с семьёй оказались в пустынных степях Казахстана.
Раненого отчима разместили в санитарном вагоне. Моя мать, шесть сводных сестёр и я находились в обычном вагоне, переполненном чужими, грязными людьми. Десять-пятнадцать семей в одном вагоне, втиснутых в тесное пространство, и один военный, наблюдающий за пассажирами в каждом вагоне.
Люди в поезде ехали уже много дней и, как и я, не знали, куда нас везут. Их тусклые лица были искажены страхом. Большинство из них говорили на нашем языке. Немцы. Все они, как и мы, были изгнанниками.
Во время погрузки в поезд женщины причитали и ужасно плакали. Непосредственно перед отправлением плакали не только они, но и дети, и старики, прощавшиеся со своим домом и родиной. Даже взрослые мужчины, прошедшие через многое, не могли сдержать слёз. Моё сердце также разрывалось от всех этих раданий и слёз – моих собственных и окружающих меня людей.
В вагоне стоял ужасный запах пота, дыма и других неопределённых запахов, вероятно, от ранее перевозимых животных. Люди сидели, спали и ели на полу, на котором было разбросано немного сена для удобства. На сене местами ещё оставался навоз от предыдущих животных.
Вместе с нами ехали только три семьи из совхоза: наш бухгалтер, господин Глеб, и однорукий бухгалтер, господин Хайман, с их семьями. Они выплачивали зарплаты рабочим, прежде чем вместе с нами отправиться в последнем эшелоне.
Мучительное путешествие продолжалось четыре недели в душном вагоне, где все окна были закрыты, и не проникал ни один луч света. Поезд часто останавливался, чтобы дать пассажирам возможность попить воды и немного поесть. В конце эшелона везли огромную цистерну, из которой нас снабжали питьевой водой. Во время коротких остановок люди разводили костры в поле и готовили себе горячую еду.
Сопровождающие нас милиционеры имели при себе свистки. Как только раздавались два последовательных свистка и команда «По вагонам!», мы оставляли все дела и бежали обратно.
На железнодорожных станциях в переполненные вагоны запихивали ещё больше людей. Никто из нас не знал, почему нас увозят и куда.
После многих изнурительных дней и ночей в пути поезд наконец остановился на конечной станции. Офицер с красными погонами громко объявил, что всем необходимо выйти. Люди, измотанные и усталые, медленно выходили из вагонов.
Нас высадили в низине посреди пустынного ничто и оставили одних. На плоской, песчаной степи, на берегу реки Тобол. Ни кустов, ни деревьев – только бескрайние просторы.
Такие голые пейзажи были нам незнакомы в родных местах на Волге. Люди становились беспокойными, женщины начинали причитать, что это конец света. Всё выглядело угнетающе.
Глава 12
Лето 1941 года, Казахстан
Так я добрался до своего нового дома – города под названием Кустанай. Один писатель в девятнадцатом веке называл его крестьянским раем – новым, свободным городом, а американский путешественник, посетивший город в двадцатых годах, в своём дневнике назвал его вторым Чикаго. Я сомневался в этом, хотя никогда не был в Чикаго, чтобы сравнить.
Кустанай принимал обедневшие крестьянские семьи. Русские, казахи, немцы, украинцы … Многие переезжали сюда в конце девятнадцатого века и в тридцатые годы в надежде на лучшую жизнь, а также те, кого принудительно депортировали в степные районы перед началом войны. Моя семья и я принадлежали к последним.
Местные деревянные здания напоминали о полугражданской жизни. В воздухе витала пыль, и повсюду, насколько хватало глаз, простирался песок.
В городе располагались многочисленные торговые точки с мясом и хлебом. Город напоминал огромную ярмарку, где можно приобрести всё, что душе угодно.
Продукты организовали специально для нас, новоприбывших, но часто местные жители Кустаная приходили и наполняли свои мешки огромным количеством хлеба. Вскоре это заметили и запретили. Позже каждому человеку выдавали не более двух буханок хлеба.
Нас привезли в совхоз Перцовка Кустанайского района, специализирующийся на свиноводстве. Мою семью направили в этот совхоз, так как мой отчим мог работать комбайнёром, а я – трактористом. Мои шесть сводных сестёр должны были работать свинарками.
Командир Гаранин лично приехал из совхоза, чтобы забрать нас. Он вёз нас на телеге, запряжённой быками, прямо через город.
Широкие улицы пересекались под прямым углом, словно их чертили линейкой. Город состоял из множества таких улиц, застроенных земляными хижинами, домиками и домами, частично из дерева, частично из камня, с четырьмя или пятью окнами. В небрежно построенных зданиях находились трактиры, кабаки и публичные дома.
Гаранин рассказывал нам по дороге о местной земле.
– Земля плодородная, если бы только летом шли дожди, – объяснял он.
Неделями песчаные бури проносились по открытой степи, затмевая солнце пылью. А зимой здесь царили лютые морозы.
За пределами города открылось невероятное зрелище. Пограничные районы Кустаная, заселённые крестьянами, ремесленниками, рабочими и бедняками, выделялись хаотичной застройкой и беспорядком. Улицы и дороги были грязными и почти непроходимыми, без твёрдого покрытия. Быки с трудом тянули телегу через многочисленные ямы и грязь.
В Перцовке мы начали новую жизнь. Нас разместили в палатках, которые защищали только от солнца, и дали три дня на обустройство. На четвёртый день состоялось собрание у шатра коменданта.
Гаранин объявил:
– Забудьте о возвращении на родину! – и предупредил, что здешние зимы очень суровы: морозы до -40 и -50 градусов, ужасные метели, каких мы не знали на Волге.
С этого дня каждый работник должен был раз в неделю отмечаться у коменданта. Работать обязаны были все, кроме кормящих матерей. Также было приказано строить жильё: школу, санитарный дом и сараи для скота. Люди были в замешательстве: как и из какого материала это делать?
За лето мы выкопали землянки, чтобы иметь крышу над головой. Глиняные кирпичи мы формовали вручную и сушили на солнце. В жирную глину добавляли песок и солому. В каждой из этих землянок размещались две-три семьи, до двадцати человек в ограниченном пространстве. Чтобы готовить пищу, мы выкапывали яму в земле, клали туда солому и таким образом устраивали печь.
В первые месяцы многие, особенно дети, умирали от голода и болезней, преследовавших нас. Родственников хоронили в степи, без креста на могиле. Не было ничего, из чего можно было бы сделать крест.
Так начиналась наша жизнь в изгнании. С ужасом и страхом мы ждали наступающей зимы.
***
Поздняя осень 1941 года
После сбора урожая, когда начались первые морозы, всех высланных немцев из деревень района отправили в совхоз Первокустанай, находящийся в восьмидесяти километрах, без тракторов, комбайнов и других необходимых для уборки урожая машин. Нам предстояло собирать зерно вручную.
Работа была чрезвычайно тяжёлой, так как зерно уже было покрыто толстым слоем снега. Мы собирали его в стога и несли к комбайнам.
В этом совхозе у нас не было собственного жилья, и каждый спал там, где приходилось, чаще всего в частных домах и хижинах местных жителей. Они не хотели нас видеть рядом с собой. Никто не желал держать врага у себя в доме.
Свою ненависть и неприязнь к нашему народу они не скрывали. Они ясно давали понять, где наше место. Нас обвиняли во всех бедах и ставили на одну ступень с Гитлером. Людей трудно было за это винить – пропаганда виновата в том, что о нас так думали.
Ситуация стремительно ухудшалась. Еды не хватало, и мы едва не умирали от голода. Всё стало так же ужасно, как в мрачном 1932 году.
Для нас оставался только один выход: бежать любой ценой. Рано утром, пока совхоз ещё спал, мы покинули поселение и направились к железнодорожной станции. Там мы сели на поезд и поехали в Кустанай, чтобы оттуда пешком вернуться домой.
Через неделю вышло постановление Политбюро ЦК КПСС о принудительной мобилизации высланных поволжских немцев в трудовую армию. Нас называли трудмобилизованными немцами или строительными солдатами.
Мужчин немецкого происхождения не отправляли на фронт – их полностью мобилизовали в трудовую армию, подчинявшуюся НКВД. С этого момента начался новый и мрачный период в жизни тысяч граждан немецкого происхождения.
Военный призыв писателей и военных корреспондентов Ильи Эренбурга и Константина Симонова «Убей немца!» из-за невежества и слепой ожесточённости был направлен напрямую против советских немцев. Я прочитал статью в газете, и у меня волосы встали дыбом. Жестокая риторика статьи потрясла меня, и я содрогнулся при мысли о будущем.
Люди рассказывали, что условия в трудовых армиях были значительно хуже, чем в лагерях для заключённых. Это было своеобразной войной против советских немцев с целью их полного уничтожения.
Мой отчим и я тоже подлежали призыву, хотя мне только что исполнилось семнадцать. Призывали всех мужчин немецкого происхождения в возрасте от семнадцати до пятидесяти лет. Позже началась массовая мобилизация российских немцев, включая женщин в возрасте от пятнадцати до сорока пяти лет. От призыва освобождались только беременные женщины и матери детей младше трёх лет. Все остальные были вынуждены покинуть своих детей, хотя в таких семьях обычно отец уже давно был в армии. Оставленные дети оставались в ужасной нищете и часто погибали.
В середине февраля 1942 года мой отчим и я получили приказ явиться в городской военкомат. Эта новость особенно тяжело поразила мать. Когда единственные мужчины, кормильцы семьи, ушли, она осталась одна с шестью маленькими девочками. Самой младшей было всего два года.
Городской военкомат был переполнен мужчинами, ожидающими своей отправки уже несколько недель. Их удерживали, приказывали ждать и утешали обещаниями, что вскоре приедут поезда и заберут их.
Вместе с нами в военкомат был вызван однорукий бухгалтер, господин Хайман, с которым нас выслали из Спартака на Волге. Этот случай я запомнил очень хорошо, так как он сильно потряс меня.
Мы стояли в очереди, когда нам приказали сдать все личные документы в призывное бюро. Хайман стоял передо мной. У него был белый билет, свидетельствующий о его инвалидности. В обычных обстоятельствах его никогда бы не призвали в армию с этим документом. Он был уверен, что его призыв – это недоразумение, которое вскоре разрешится, и его отправят домой.
Низкорослый лейтенант приказал ему подойти.
– Сдайте ваш военный билет и паспорт, – распорядился он.
– Вот мой военный билет, – сказал Хайман, протягивая документ. – У меня белый билет. Я не годен к службе.
– Положите всё сюда.
Хайман недоверчиво смотрел на него. Он надеялся, что лейтенант отправит его назад из-за инвалидности, но этого не произошло.
– Посмотрите, у меня только одна рука, – возмущённо сказал бухгалтер. – Что я буду делать в армии?
– То же, что делаешь сейчас в совхозе, – отрезал лейтенант. – Положите документы.
Это было его последнее слово. Хаймана призвали в армию как полностью годного солдата.
Затем подошла моя очередь. Я передал свои документы лейтенанту, но спрятал свидетельство о рождении. Не знаю, что меня на это толкнуло. Я ни в коем случае не хотел его сдавать, потому что оно было для меня особенно важным. Оно было составлено на немецком языке и свидетельствовало о моём немецком происхождении. Возможно, оно мне ещё пригодится.
Спустя две недели прибыл поезд, чтобы нас забрать. Более двух недель мы провели в тесных, переполненных телячьих вагонах. В середине марта наш путь завершился в Туринске, сибирском городе.
Здесь царил невероятный холод, ставший для нас смертельной угрозой. Местные немцы, призванные вместе с нами в трудовую армию, имели тёплую одежду из звериных шкур и сани, нагруженные огромными мешками с едой. Мой отчим и я не имели ничего, что могли бы взять с собой. Когда мы уходили, мы оставили большинство наших вещей матери и моим шести сводным сёстрам. Взяли с собой только по литру творога и немного хлеба – всё, что мать смогла нам дать.
Я также взял свои инструменты для ремонта тракторов – настоящий раритет, так как они были из прямой заводской поставки, что было крайне редким. Я обменял их у старика из соседнего совхоза на миску творога.
В Туринске нас привезли в тюремный лагерь. Холодные, мрачные серые стены и огромная колючая проволока внушали нам ужас. Это было страшное место, и мы не знали, что с нами собираются делать. Мы лишь следовали приказам офицеров.
Тюремная зона, где нас разместили, представляла собой огромный зал, заставленный двухъярусными койками, на которых заключённые спали, тесно прижавшись друг к другу. В это ограниченное пространство загнали более четырёхсот человек. Заключённых, которые раньше содержались здесь, отправили на фронт, чтобы освободить для нас место.
Здесь было так темно, как в подземной казарме. Через крошечные окна под потолком едва проникал свет.
Нам выдавали скромный паёк – маленький кусочек хлеба, чёрного как смоль. Он сильно пах керосином и на вкус был таким же отвратительным, как и на запах. Я откусил немного и тут же выплюнул. Абсолютно несъедобно.
Тем не менее, я не выбросил хлеб, a положил его высоко на подоконник, полагая, что там его никто не найдёт.
Когда офицеры закричали приказ ложиться спать, все койки уже были заняты. Я потратил слишком много времени на поиски укромного места для хлеба и не успел занять место для сна. Поэтому я лёг прямо на холодный пол.
Было ужасно холодно, и я дрожал всем телом. В ту ночь мне не удалось найти покоя. Со всех сторон доносились странные звуки, наполняя меня глубоким страхом и тревогой. Голод тоже не давал мне покоя. Казалось, эта ночь была самой долгой в моей жизни.
Рано утром меня разбудил громкий, резкий голос офицера. Как ни странно, но мне всё же удалось задремать на несколько минут.
Очнувшись, я снова почувствовал острый голод. Мне нужно было что-то съесть, и я вспомнил о кусочке хлеба, спрятанном на подоконнике. Но когда протянул руку за хлебом, с огорчением обнаружил, что подоконник пуст – хлеб исчез.
Меня охватила невыразимая ярость, и я ничего не мог с этим поделать. Надо было сразу съесть этот хлеб, даже несмотря на его отвратительный вкус.
Я остался голодным. Только вечером нам снова раздали хлеб – по одной буханке на четверых и по одной селёдке, без воды. Мужчины мучились от жажды, которая ещё больше усиливалась из-за солёной рыбы в рационе.
Мы провели здесь всего несколько дней, пока не пришёл приказ отправляться дальше в Краснотуринск. Через ледяные снежные заносы нас гнали пешком сто восемьдесят километров. Это было испытание, не поддающееся описанию, через которое мужчины должны были пройти. Многие заболели, и многие так и не достигли конечного пункта. Холод и голод стали нашими беспощадными врагами, против которых мы были вынуждены бороться любой ценой.
Когда мы проходили мимо первых поселений, мужчины отчаянно пытались раздобыть съестное. Они обменивали все свои вещи на хлеб. На мне была рубашка, красиво вышитая украинскими узорами, и анорак. Я не хотел расставаться с анораком, боясь замёрзнуть, но рубашку снял и отнёс в поселение. Нашёлся желающий её купить. Я обменял рубашку на несколько печёных картофелин и немного жареного гороха. Для меня и моего отчима это был настоящий праздник.
Вскоре командиры запретили нам заходить в поселения и торговать с местными жителями. В общем, представителям других национальностей было запрещено общаться с немцами вне рамок необходимых рабочих контактов. Каждый, кто нарушал приказ, наказывался без пощады. Местные жители избегали нас и обходили стороной, считая нас врагами.
Вооружённые офицеры НКВД с собаками окружали батальоны и следили, чтобы никто не выходил за рамки установленного порядка. Белорус, подполковник, шёл впереди колонны, а другие подгоняли нас сзади и по бокам.
Был отдан приказ: любой, кто сделает шаг влево или вправо, будет считаться дезертиром. Стреляли без предупреждения.
Мы больше не останавливались в деревнях, а делали привалы только после их прохождения. В качестве провизии нам выдавали сухой паёк, который никогда не насыщал. Пить нам не давали, и жажда была сильнее голода. По дороге мы ели холодный снег.
Во время привалов мы разжигали костёр и пытались немного согреться у него, но при таком лютом морозе это мало помогало. Мы уже несколько дней шли без сна, промёрзшие до костей, голодные и жаждущие. Холод настолько сковал мои ноги, что я почти перестал их чувствовать. Все мужчины были изнурены и озлоблены.
У следующего крупного поселения мужчины выразили протест против командира нашего подразделения. Они окружили его, связали и удерживали.
– Мы не сделаем ни шага дальше, – кричали мужчины. – Делайте что хотите. Расстреляйте нас всех, мы не сдвинемся с места. Мы люди, а не животные. Обеспечьте нас жильём.
Требование было выдвинуто.
Невероятно, но это действительно подействовало. Подполковник обратился к председателю поселения, переговорил с ним и добился, чтобы нам предоставили жильё.
Большинство разместили в клубе. Меня поселили в конторе колхоза. Здесь не было ни кроватей, ни других мест для сна. И снова я получил самое худшее место – на полу прямо перед дверью.
Через некоторое время я начал понемногу согреваться. Внезапно я почувствовал острую боль в пальце ноги и попытался стянуть валенок. Но он намертво примерз. Чем больше я тянул, тем сильнее становилась боль. Хотелось выть от этой невыносимой муки.
С усилием я сорвал валенок с ноги, и боль тут же пронзила меня так сильно, что слезы навернулись на глаза. Палец на правой ноге почернел и посинел. Он невыносимо жег, как огонь. В ту ночь я почти не мог сомкнуть глаз от страданий.
Во время утреннего построения, когда подполковник отдал приказ о выдвижении, я набрался смелости и обратился к нему.
– Господин подполковник, из-за травмы я не могу продолжать путь.
– В чем твоя проблема?
Я описал ему свою ситуацию. Он взглянул на меня сквозь полуприкрытые веки и сказал:
– Хорошо, кто не может идти дальше, остается здесь. Остальные, шаг вперед из строя!
Около шестидесяти человек остались. Незадолго до того, как остальной отряд двинулся вперед, подполковник предупредил нас:
– Если медицинская комиссия осмотрит вас и выяснится, что вы солгали, всех объявят дезертирами и расстреляют. Таков действующий закон.
Мы остались, не зная, что нас ждет.
Позже прибыли три автомобиля. Их вместимость, конечно, не была достаточной для всех шестидесяти человек. Нам приказали сдать все наши вещи в местные склады и оставить несколько человек для охраны.
– Они будут присматривать за вещами. Вы же доверяете своим людям, верно? – сказал один из командиров. – Позже приедет трактор, заберет всё и доставит в ваш лагерь.
Мы оставили пятерых человек. Остальные забрались в открытые деревянные кабины машин и были отправлены в путь.
Нас привезли в шестидесятый лагерь, командиром которого был подполковник Густав. Он был ещё совсем молод, ненамного старше меня, и я удивлялся, почему именно он командует нашим подразделением. Такой динамичный, энергичный молодой человек должен был бы находиться на фронте.
Трудовой лагерь представлял собой тесный, тёмный барак и одновременно офицерский штаб посреди леса, в необитаемой, дикой местности тайги. Серые стены барака были покрыты инеем, с потолка свисали сосульки. Здесь не было ни печки, ни какого-либо другого отопления.
Ночью, когда помещение было переполнено людьми и почти не оставалось свободного места, лёд таял. Вода капала с потолка, и утром мы просыпались в одной большой луже.
Офицеры выдали нам топоры, пилы и другие инструменты, приказав валить деревья в лесу. Древесина была необходима в первую очередь для постройки жилья, где мог разместиться наш отряд.
Работа была тяжёлой: рубить деревья при температуре около минус сорока градусов. Мы рубили ветки и разводили костры, чтобы согреться в этом ледяном холоде. Время на отдых нам не давали. Как только командир колонны замечал сидящего у костра в пальто, он приказывал заключить его под арест на пять дней без воды и пищи.
Они ходили вокруг нас с оружием и пристально наблюдали за каждым. В таком режиме боялись даже чихнуть не в ту сторону, не говоря уже о том, чтобы отвлечься от работы.
– Кто так работает? – кричал командир колонны. – Немедленно сними пальто. Работать нужно без пальто.
Предупреждали только один раз, за второе нарушение следовало наказание.
Мы готовили древесину для строительства жилья, таскали мох из ближайшего болота и возводили хижины. Строили наспех, без фундаментов: бревна клали прямо на снег, заделывали свободные пространства мхом – и хижина готова. Главное, чтобы появилась крыша над головой.