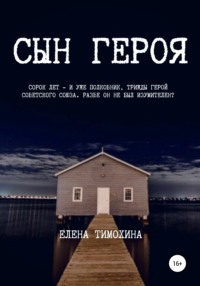Полная версия
Краснознаменный отряд Её Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии полка (солдатская сказка)
Г-жа Штейнбрехер выразила неудовольствие. Впрочем, вежливость и приветливость Наоми все искупали.
Предоставленная ему комната не запиралась, и доктор спал чутко, просыпаясь от каждого стука. Среди ночи в коридоре прозвучали шаги, словно кто-то скребся в дверь. Это пришла Наоми Штейнбрехер. При близком рассмотрении она поразила доктора россыпью веснушек, кожа у нее была тонкая, как бумага, и сквозь неё просвечивали кровеносные сосуды. Девушка намазалась пудрой, стесняясь своей прозрачности. Она тростинка, подумал доктор, так и расхаживает, покачиваясь на ветру.
– Я – не сосиска, так что на сей раз вам обломилось, – сказала она шутливо. – Ведь, если бы не вы, отца бы не осталось в живых.
Ничего не объясняя, Наоми юркнула в раскрытую постель, еще хранившую тепло его тела. Слабым жестом Пустовойт пытался выразить свое несогласие, но девушка проявила упорство. Широкими объятиями она вызвала потуги мужского начала, и с завидным аппетитом сметала все, что ей предлагали.
– Хочешь нуги? – спросил он.
– Хочу, но не нуги, – и она хрипло рассмеялась.
Обычно сдержанная, она старалась вознаградить себя за молчаливость и болтала не переставая.
– Вы считаете меня неорганизованной? Не то, чтобы прямо говорите, но считаете так, верно? Знаете, почему? Женщины выходят замуж, не представляя, в чём именно заключается брак. Я так не хочу. И вы, герр доктор, мне все объясните. Я хочу знать про себя всё. Хорошо?
Он ответил, что посчитал ее приход знаком особой милости и позаботится, чтобы ее не разочаровать.
Она сморгнула, было очевидно, что она не верит ни одному его слову:
– Вы меня не предадите? Дайте слово офицера.
– У нас говорится так: «Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кем бы она ни была».
– Да, так будет хорошо.
Клятва вызвала у Наоми доверие, и она успокоилась.
Их свидания она обставляла с наилучшим комфортом.
– Не желаете ли вина, у меня есть. Абрикосовый ликер, от него внутри жжется. С вами хорошо. Взгляд мягкий, аккуратные черты лица. Мать говорит, что с возрастом вы станете полнеть и потеряете волосы, но кто сейчас думает о старости? Довольно и того, что сейчас вы очень привлекательны. Артистизм и легкая экстравагантность вам к лицу. Съешьте устриц, они приятны на вкус и необыкновенно дешевы. Вот только устричного ножа нет, боюсь, его украли.
Он хотел сказать, что будет безумцем, если согласится, но в этот момент подоспел чай и ликер, запоздавшие афродизиаки, закончившие за Наоми работу обольщения.
Пустовойт читал ей стихи, но поэзия ей не нравились. Девушка любила петь и танцевать и с удовольствием рассказывала про деревенские праздники, где ей доводилось блистать. К сожалению, свободного времени ей выпадало мало, потому что в ее обязанности входило пасти скот. Братья подрастали и скоро смогут управляться со скотиной, так что её ожидало место прислуги в богатом доме, и она претендовала на место горничной в замке.
Доктор с удовольствием слушал её болтовню, они целовались и в этот миг находились не так далеко от рая. В этом рае царила чистота.
Его удивляло, что Наоми мылась дважды, приходя на свидание, а потом – после. Сначала доктор принял это на свой счет и спросил: «Что-то не так. От меня пахнет?». – «От тебя – нет. От меня пахнет тобой. Мать унюхает», – объясняла она.
Когда он забирался в романтические бредни, Наоми обрывала его на полуслове поцелуем. Она боялась, когда он говорил о будущем.
Утром доктор лежал без движения, разглядывая её лицо без кровинки и широко открытые, немигающие детские стеклянные глаза.
– Как жаль, что я не доктор, – вздохнула Наоми.
– Я тебя выучу на медсестру.
Жильцом доктор оказался непривередливым: ел все, кроме устриц.
В будние дни Николай Васильевич мог располагать залом с большими окнами, и сквозняки отделяли его от рая на земле, которым пыталась представить Каринтию хозяйка-австриячка. Ничуть не смущаясь его пижамы, супруга фотографа входила в комнату и, подсаживалась рядом на постели, выпытывала подробности его жизни. Через четверть часа она узнала о его вдовстве, работе и финансовых обстоятельствах – достаточно, чтобы составить свое мнение, о котором вскорости дала знать.
К завтраку обе женщины – фрау Штейнбрехер и ее дочь – вышли в национальных костюмах дирндль. Наоми передала доктору приглашение проследовать к столу, хотя в доме он был единственным жильцом. Его уже ждал стакан воды с розовым сиропом – знак того, что он принят в семью, а вечером подавали свинину на ужин, и белое с розовым жиром мясо в сочетании с мозельским вином закрепили их союз. Доктор был небольшой, но крепкий и жилистый. Такие мужчины хозяйке нравились.
Наоми оказалась неплохой музыкантшей, а то, что Николай Васильевич в молодости выступал на домашних концертах с виолончелью, решило дело. Старший мальчик играл на скрипке, но его исполнение напоминало стиль уличных попрошаек, впрочем, Анталь Игнац был слишком воспитан, чтобы просить подаяние. На праздниках он считался кавалером сестры, которую родители считали совсем девчонкой, но теперь решили выдать замуж за жильца.
На следующий день концерт продолжался, и братья снова играли на скрипке и фортепиано. «Было бы очень хорошо, если бы ты сказал, что они имеют талант, – подсказала Наоми. – Потому что меня упрекают в том, что я их балую».
Анталь Игнац улучил момент, когда взрослые вышли, и они с доктором остались одни.
– Вы будете у нас жить? Позвольте взять вашу тарелку, я ее вымою. У вас нет немного денег? Мы с братом хотели бы купить нуги. Нам хватит самой малости – для меня и моего младшего брата. Бела Габриэль будет вам крайне признателен.
Малыш таращил глазенки – это и был Бела Габриэль.
Клянчили дети совсем по-европейски, тоненькими голосками, словно пели в хоре, трогательно сложив ручки.
У доктора практически не оставалось денег, что и неудивительно, если учесть оплату семейных обедов и расходы на малышей, регулярно выпрашивавших деньги. Папаша не задавал вопроса, кто оплачивает ему лекарства. Иоганн был рад собеседнику, с которым имел возможность обсудить прочитанное в газетах. Г-н Штейнбрехер был приятно поражен основательными познаниями будущего зятя в европейской политике. Расчувствовавшись, он похвастал ему приобретенным трофеем – маской, которую носил командир и водитель английского Mark I для защиты лица от осколков. Кожаная? Нет, это сталь, обмолвился он за рюмочкой рому.
К низу маски прикреплялась подвижная часть, сплетенная из колец на манер кольчуги, она прикрывала подбородок. Иоганн признался, что эту маску носил водитель, который подорвался на мине.
А когда доктор вернулся после ужина в свою комнату, он с нетерпением ожидал прихода Наоми. Она явилась в одном халате, сбросил который, осталась обнаженной. На лицо она напялила железный шлем своего отца.
Дни Пустовойт проводил в поисках работы и возвращался в свою комнату только, чтобы спать. Фрау Штейнбрехер проявляла к нему искренний интерес: она слушала его рассказы и следила за состоянием его одежды. Как же он желал, чтобы она оказалась менее внимательной.
Доктор проводил все свободное время в своей комнате, где к нему присоединялась доктором, наблюдая, как он чистит инструменты – этому занятию он отдавался дни напролет, борясь с унынием. Она нажаловалась матери на сквозняки, и тогда из кладовой были извлечены тяжелые драпировки, от которых пахло табаком от моли.
Во время семейного обеда Пустовойт лишался своего убежища, но это случалось крайне редко. Из-за инфляции цены на продукты выросли, и семья питалась жидким супом, который съедали прямо на кухне.
После вечерней трапезы, он усаживался к столу и открывал книгу из библиотеки г-на Штейнбрехера, которую выбрала для него Наоми.
– Боюсь, я не смогу уснуть.
– Тогда я принесу вам свечу.
Это был «Дон Кихот» Сервантеса.
Утром дочь фотографа триумфально проходило мимо постояльца, которому при всех не дарила ни малейшего знака своего расположения. Этим она старалась уберечь их отношения от бдительного ока матушка Штейнбрехер, и ей это удавалось. В дочери фотографа не было ничего от кокетливости девиц или неприязненной плаксивости замужних дам, сожалеющих о своем грехопадении. Однако после первого случая Наоми нечасто оставалась на ночь.
Так и случилось, что доктор обзавелся семейством, а в нем пара стариков и трое детей, старшей девятнадцать. Дети брали уроки флейты, но они больше думали о хлебе и особенно о колбасе. Они не пробовали её целую вечность.
За небольшую мзду Пустовойт сговорился с Анталем Игнацем и хранил свои вещи на чердаке с детскими игрушками. Ученики зубрили уроки, в игрушки не играли.
Родители Наоми считали Пустовойта завидной партией, и они облизывались на него, словно он был булочкой с изюмом. Его глазки-бусинки и пухлые щеки делали его похожим на сдобу, только живую и подвижную.
Ко всеобщему удивлению, Наоми заявила, что не хочет выходить замуж, а поступает служанкой в замок Кельштайн. Не сказать, чтобы у матери это вызвало радость, но во всяком случае, встретило понимание – половина жителей города была так или иначе связана с замком. Мария Габриэла Антонина уговаривала доктора спросить там работу, но Иоганн Штейнбрехер его не отпускал. Он оказался беспокойным пациентом и постоянно жаловался на боль, на всё обижаясь и упрашивая, чтобы ему дали умереть своей смертью. Доктора Пустовойта поражало малодушие иных пациентов, которые пройдя тяжкое испытание, впадали в уныние, и в силу душевного упадка страдали от телесных болей. Также доктора беспокоила отечность, которая возникла у фотографа после перелома. Причиной тому служило нарушение кровотока в области травмы или повреждение мышечной ткани. Отек мог возникнуть как сразу после получения травмы, так и через продолжительное время после неё. В случае Штейнбрехера отёк образовался сразу.
Все силы доктор бросил на борьбу с патологической подвижностью конечности. Беспокойный больной постоянно ощущал потребность вставать и барахтался в поисках опоры, но она была невозможной, и движения его сильно затруднялись. Пустовойт потребовал кожаные ремни и привязал пациента к кровати, отчего тот напоминал грешника в аду. Наряду со скелетным вытяжением доктор позаботился об иммобилизации тугой повязкой. Про гипсовую повязку в аптеке не знали, но обещали доставить ее из Вены.
Г-н Штейнбрехер, преисполненный благодарностью к врачу и сиделкам (их роль исполняли его жена и дочь), чрезвычайно тяготился суровыми условиями, в которых протекало его лечение, и это служило темой его постоянных жалоб. Приговор доктора был суров: срок ношения повязки зависел от многих факторов и мог составить 4 месяца. Больших трудов стоило заставить фотографа утихомириться, он все искал положение, в котором боль будет более-менее сносной – и так продолжалось до тех пор, пока доктор не делал ему укол морфия.
Всё это время доктору только и оставалось, что совершенствоваться в смирении. Он причислял себя к людям, которым необычайно везет на происшествия. Болезней на их век достается больше, чем остальным – из них и получаются врачи. Так и знакомство с г-ном Штейнбрехером, возникшее вследствие крушения поезда и дирижабля, переросло в крепкую дружбу из-за автодорожной аварии.
Как бы то ни было, у Николая Васильевича появилась крыша над головой, однако оставалась финансовая проблема, которая нуждалась в разрешении. Лекарства для хозяина стоили немало, а без задатка аптекари не стали бы посылать нарочного в Вену. Семейство крайне нуждалось, и ламентации хозяйки, лишившейся кормильца, раздавались по всей округе. Нечего было и думать, чтобы оставить этих людей в таком бедственном состоянии. Доктору пришлось взять на себя заботы о семействе, в лоне которого он очутился по воле случая.
За столом г-жа Штейнбрехер в который раз сетовала на дороговизну, это была ее привычная тема для разговора. Фотограф предложил договориться о поездке в банк, но, когда жилец отказался, немного обиделся. Доктор встал из-за стола голодным и до вечера обивал пороги учреждений в поисках вакансии врача. В его темных глазах тлела такая тоска, что он получал отказ почти сразу и уходил, не пытаясь возражать.
Когда надежда его оставила, ему предложили должность благодаря хлопотам Наоми, которая работала прислугой в замке у герра Кюхле.
В тот вечер г-н Штейнбрехер заявил, что чувствует себя значительно лучше, он был навеселе скорее от хорошего настроения, чем он выпитой рюмки шнапса. Мальчики хотели привлечь к себе внимания доктора, но делать этого не стоило, и они получили нагоняй от отца.
– Теперь уходите-ка вы оба, мне пока ничего не нужно. Я хочу поговорить с герром доктором наедине.
Иоганн позволил отвезти себя на тележке в комнату и в знак особого доверия показал фотографическую пластинку, на которой было запечатлено крушение дирижабля. «Оттобург» вышел из грозового фронта, работники сбросили тросы, потом раздался взрыв.
На глаза Пустовойта навернулись слеза. Очень хорошо вышло, сказал фотограф, словно это могло успокоить его друга.
Долгими вечерами они обсуждали эту аварию. Инженеры уже осознавали опасность водорода и утверждали, что полет на огромной бочке газа – невероятно рискованная затея. Тем не менее немецкие конструкторы не отступались: они предусмотрели множество систем безопасности и разработали очень дотошные протоколы управления дирижаблем. Проблема заключалась в том, что в то злополучное утро всё это намеренно проигнорировали – воздушное судно опаздывало, поэтому важные персоны на борту настаивали на скорой высадке.
Доктора, как и хозяина, занимал вопрос, почему дирижабль остановился на станции Грумау. Не потому ли, что не рассчитали запас водорода до Зальцбурга? Герр Штейнбрехер предполагал, что авария была вызвана, с одной стороны, разгерметизацией одного из баллонов с водородом, смешавшимся с воздухом, а с другой – искрой, проскочившей в этой взрывоопасной атмосфере из-за наэлектризовавшейся во влажном воздухе оболочки.
Памятуя встречу в лесу, доктор считал, что дирижабль расстреляли из зенитной батареи, однако не спешил высказывать свое мнение. Превыше всего в своем новом положении он ценил безопасность.
4. Раскрытие тайн чревато неприятными последствиями
Ранним утром Пустовойт спешил в город, чтобы приобрести лекарства для г-на Штейнбрехера. На прилавке аптеки лежали свежие газеты, и, пользуясь случаем, он пролистал одну из них в поисках новостей с фронта. Благополучно избегнув расспросов провизора, он расплатился и сунул газету в саквояж.
Он высматривал Терентьева, которого видел сидящим за столом с дедами на деревенской площади, где они потягивали домашнюю водку. Тогда Иван Георгиевич не услышал окрика, он даже не поднял глаза от бочки с картами.
В этот раз на площади никого не было. Возможно, в прошлый раз доктор обознался.

На обратном пути Николай Васильевич не преодолел искушения заглянуть в парк, которым славился, замок Кельштайн. Казалось, его миновали тяготы войны, и он переживал второе рождение. Под присмотром садовников солдаты спиливали акации и сажали новые деревья, чтобы восполнить липовую аллею, встречающую гостей на входе и сопровождающую их на всем следовании экипажей.
Если где и следовало искать Терентьева, то в замке.
Этот странный господин каждый раз приводил доктора в недоумение. При их знакомстве в Бадене вышел казус: Терентьев стоял в аллее, преграждая дорогу к источнику, но, когда доктор попросил разрешения пройти, тот и ухом не повел. Лера сочла его грубияном, но она переменила мнение. Когда фрау Фишер представила их друг другу. Он не был грубияном, как и глухим или слепым, просто он имел особенность на время выпадать из реальности.
С флегматичным поведением Терентьева не вязались многочисленные знакомства, которые он заводил на водах. Через него доктор и заполучил несколько пациентов, благодаря чему смог возобновить свою врачебную практику. Дезориентацию в пространстве капитан объяснил осколочным ранением в голову, но здесь, в Кельштайне, доктор заподозрил явный случай притворства и теперь искал случай разоблачить симулянта.
Расчет доктора оказался верным: Терентьев прогуливался по аллее в сопровождении сестры милосердия, изображая больного. Поклонившись обоим, Пустовойт отозвал Терентьева в сторону и напомнил ему о некой даме, полагая, что воспоминание вызовет у него приятные эмоции:
– Вам передает привет фрау Фишер.
Попытка привлечь внимание оказалась тщетной. Ни слова не говоря, Терентьев двинулся прочь – медленный алкоголик, который невесть что замыслил. По пути он неосторожно задел господина с курительной трубкой, тот извинился и пропустил его. Капитан продолжил путь и угодил прямиком в дерево. В следующую минуту над ним хлопотала медсестра, помогая подняться, очевидно, такое случалось с Терентьевым и раньше.
Буль Николай Васильевич посмышленей, он бы понял, что капитан не хотел афишировать их знакомство и ясно дал понять, что находится под присмотром, однако так далеко мысль Пустовойта не заходила.
Он продолжал обход окрестностей. Неподалеку протекала темная река, и мальчишки, рыбачившие на мосту, ловили на удочку черепах. Доктор наблюдал за пойманной ими добычей: пленница не могла отцепиться от крючка и устремилась прочь, волоча за собой удочку с леской, от которой ей удалось освободиться только в воде. Эти неуклюжие создание весьма ловко бегали.
Поблизости нашелся трактир, посетителей привлекала латунная вывеска в виде русалки, чья чешуя блестела на солнце. Доктор зашел узнать новости, а также прочитать газету, купленную в аптеке.
Внутри трактир оказался довольно непригляден: с убогой мебелью и убитым земляным полом. Сюда приходили веселиться, а у доктора возникло ощущение, что отсюда вызывали в преисподнюю – не очень у них весело. Он даже сверился с вывеской, все верно: «У Ганса» – так называлось заведение. Заправлял всем кабатчик Мёллер, во всех отношениях деловой господин. Он восседал за дальним столиком, отгородившись от зала занавеской, и решал таинственные дела. Монетки в чешуе русалки наводили на мысль о финансовых операциях, которыми здесь занимались. Еще аптекарь объяснил доктору, что здесь можно приобрести все, что только продается на черном рынке.
– Угодно поесть? – спросила у доктора официантка.
– Моя любимая еда – мясо. Крупным куском. Много. Способ приготовления значения не имеет.
Ему пообещали пиво и печеную рульку (вместо которой подали ребра с кусками жира), это здесь заказывали все. Один раз к нему подошел сам г-н Мёллер и, пожелав приятного аппетита, тут же изложил поручение, которое вызвался передать. Он представлял некоего господина, желавшего получить сполна за доставленные хлопоты – включая копку могилы для фрау Пустовойт и доставку герра Штейнбрехера домой. Хотя имени своего доверителя кабатчик не назвал, доктор понял, что речь идет об Эрике. Он выразил радость, что тот жив и задал несколько вопросов, но трактирщик выполнял функции посредника, не более. Он ждал денег, и доктор положил на стол пару купюр, а когда Мёллер принялся набивать цену, твердо заявил, что больше денег у него нет и после крушения поезда он сам остался почти без средств к существованию.
От доктора не укрылись быстрые взгляды, которыми при этом обменялись завсегдатаи трактира. Попивая пиво и отказавшись от гороха, доктор стал слушать разговоры, которые в этих краях заменяли чтение газеты. Люди за задним столом тихо беседовали, обделывая свои делишки, но большинство посетителей были рады покричать, дай им только повод.
В зал вошли новые люди и устроились неподалеку от него. Они начали шуметь, но доктору это не помешало – он так и сказал. Тогда они изменили тактику: стащили его со стула, выволокли из-за стола. От них воняло потом – видимо, успели потрудиться, и понятно, что у них за работа, выбивать мозги.
Овладев его саквояжем, они не стали его уносить, а высыпали содержимое на стол. Что они там увидели? Непосвященным людям хирургические инструменты напоминали орудия палача.
– Не трогайте, – прикрикнул на них Пустовойт.
– Бог с вами, доктор, я сберег ваши вещи, – какой-то тип подал ему саквояж, а сам ощупывал себя, словно проверял, не повредил ли что.
Доктор счел, что место для него неподходящее. Газет тут не читали, а разговоры крутились вокруг насущных нужд. Не успел он подняться с места, как человек, пришедший ему на помощь, перешел за его стол и уселся рядом, загораживая ему выход. Он даже не попросил выпить, напротив, сам предложил стаканчик. Сказал, что его зовут Клаус Герба.
– Хочу вас угостить в честь знакомства.
Вот при каких обстоятельствах произошло знакомство с Клаусом Гербой.
Этот тип приклеился к нему намертво и не хотел отпускать от себя. Пустовойт не выдержал:
– Я ничего не покупаю.
В ответ Герба буркнул, что розничной торговлей занимаются в другом месте.
Тем временем в зале опять стало шумно, прибыл оратор из замка, и посетители радовались развлечению.
– Я Безродов, – представился он доктору.
У юноши было округлое милое лицо воспитанника, которых во множестве выпускали из военных училищ: девичьи губ улыбались, а на лбу сохранялся завиток нежных волос. Посещая пивные, он не приобрел дурных привычек и взирал на всех с любопытством. Его ногти были аккуратно подстрижены, но манжет рубашки оказался безжалостно откромсан – то ли порвались петли для запонок, то ли он хотел избавиться от кружев, неуместных в его новой жизни. Доктор согласился с Безродовым: с той жизнью следовало покончить навсегда.
Выяснилось, что оратор из молодого человека никудышный: его речь напоминала передовицы газет.
– Мы думали, мадам, что наше время – век буржуазной сытости, праздности и непоколебимой веры в прогресс. Но вы видите обречённых на гибель солдат, в эту войну вовлечены представители всех классов. Бессмысленность и ужас войны заключается в абсолютном непонимании солдат против кого и за что они воют.
Из женщин в трактире присутствовала лишь официантка, но свою речь Безродов обращал явно не к ней.
Пустовойт заказал у Клауса папиросы для фотографа, сорок штук. Тот предложил хинджи, но доктор отказался, торговец отталкивал своей назойливостью. На прощание он стал навязываться:
– Предлагаю взять фиакр на двоих.
Словно они находились где-нибудь в Париже. Явно хотел узнать, куда Пустовойт направляется. Доктор отказался от «фиакра» и сказал, что доберется пешком.
По дороге в город его задержал полицейский, преградил путь и спросил: «Куда путь держите?» – «К пациенту. Я врач». – «Учтите, я за вами присматриваю. Если вы врач, то обязаны встать на военный учет». – С этими словами полицейский сделал отметку в своем блокноте.
Николас Фридеман оставил работу проводника и не понимал, в чем заключались его новые обязанности. Он сопутствовал Геллеру, а взамен тот заботился о транспорте, кофе и гостинице. Сейчас они сняли комнату в трактире «У Ганса» и сидели в обеденном зале, надвинув капюшоны на головы. Вместо мусса подавали яблочный пирог, и кофе был сварен из желудей.
– Вы что, монахи? – спросил их Мёллер.
Фридеман посмотрел на него через линзу очков и стал разглядывать голубые навыкате глаза, пшеничные усы, а в довершении ко всему грубую красную кожу с прыщиками.
– Ваш друг что, идиот? – спросил трактирщик.
Фридеман не понимал, что этому человеку нужно от него и что сам он тут делает, поэтому спросил об этом Геллера, когда трактирщик ушел.
– Ты здесь для того, чтобы отомстить.
– А как?
– Этот человек нам поможет.
Когда в следующий раз кабатчик к ним подошел, Геллер осведомился, не видели ли здесь человека в черном пальто. Г-н Мёллер пожал плечами. Геллер не сказал ничего лишнего, просто положил на стол скальпель. Хозяин кивнул в знак того, что понимает о ком речь.
– Измученного человека, который чудом спасся? Мне его жаль.
Фридеман ожидал крика, ведь его товарищ терпеть не мог, когда ему противоречили, однако обошлось миром:
– Этот господин убил человека, – сказал Геллер.
– Молодую девушку, – добавил Фридеман, наворачивая яблочный пирог.
– Я так понимаю, у вас личные счеты. Могу оказать содействие, только прежде помогите избавиться от Клауса. Вы – его, а я позабочусь о вашем докторе.
Уходя, они оставили задаток, но для чего он предназначался, не стали уточнять. На прощание Фридеман попросил, чтобы к их приходу испекли яблочный пирог и не забыли туда добавить побольше корицы.
Второй раз за день доктор Пустовойт встретил продавца хинджи сильно избитого, тот лежал на земле и не двигался. Доктор взгромоздил его к себе на спину и направился к замку. Там Клауса знали, но через ворота впускать отказались, посоветовав черный ход. Когда они прибыли на место, больной очухался.
– Не очень-то вы любопытны, – заметил Клаус.
– Пусть это остается вашей тайной.