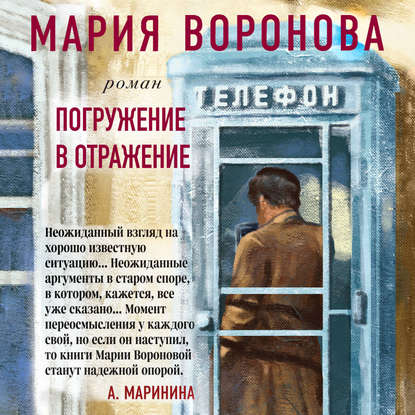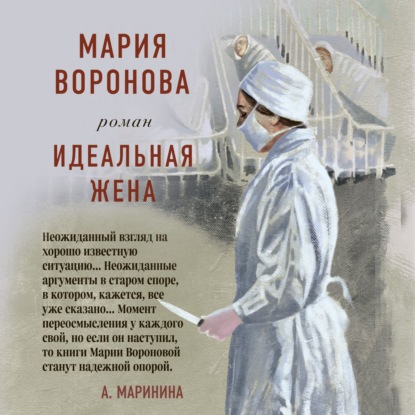Полная версия
Второй ошибки не будет
Заметив, как глубоко Лиза затянулась сигаретой, Анатолий покачал головой:
– Уж это точно вреднее, чем картошка.
– А я вообще-то не курю. Только нервы успокаиваю, когда меня твоя мамаша выведет, но поскольку она занимается этим постоянно, то могу и пристраститься. Толя, ну скажи ты ей!
– Что?
– Не знаю. Вот что ты сидел, как в рот воды набрал, вообще за меня не заступился?
– Лизочка, но это все-таки мама…
– А это все-таки я, жена твоя! А то все-таки Оля, твоя дочка! Сколько ты еще будешь позволять маме сосать из нас энергию?
Анатолий пробормотал, что мама хочет им всем только добра.
– Ага, сейчас! Ха-ха два раза! Я зря, конечно, тебя про огурцы спросила, а ты тоже хорош, не сообразил. Надо было сказать, что мои огурцы отстойные, жрать невозможно, не то что у любимой мамули. Умилостивить наше домашнее божество хоть так.
– Ну, конечно, я во всем виноват, кто бы сомневался, – обиженно засопел Анатолий.
– Поговори с ней, Толя, пожалуйста! Мы же все делаем, как она хочет. Отдельную комнату – пожалуйста, после одиннадцати не шуметь – будьте любезны, гостей не водить – извольте. Как королева во дворце, казалось бы, что еще тебе надо? Живи и радуйся, но нет! Для полного счастья необходимо задолбать домочадцев, чтобы всех трясло от ненависти к тебе. Вот тогда день удался!
– Ты преувеличиваешь.
– Да неужели? Толя, поговори или я сама это сделаю.
Анатолий неопределенно кивнул, надеясь, что это сойдет за обещание. Не сошло.
– Трус несчастный! Конечно, тебе что, не твои нервы километрами на кулак наматывают.
– Лиза, но она ж не слушает. Сразу скажет, что мы неблагодарные и ее не любим, и заплачет – и тут уж либо утешать ее, либо повеситься.
Анатолий вздрогнул. Но не нашел, что сказать.
Жена с силой затушила сигарету и резко обернулась к нему:
– Ну, раз вторая сигнальная система не работает, надо перейти на уровень рефлексов, – шепотом прокричала она, – как собаку дрессировать. Здесь можно, а здесь фу, нельзя. Место! Полезет, куда не звали, сразу по рукам! Раз, два, а на третий она уже подумает, но все равно полезет. А на четвертый подумает и не полезет.
– Лиза, ты говоришь о моей матери, – взмолился Анатолий.
– Извини, – Лиза резко замолчала. А потом пристально посмотрела мужу в глаза и сказала: – Слушай, Толя, давай уедем?
– Куда?
– Да куда угодно! Учителя и водители везде нужны. Хоть под Томск вернемся. Точно, – воодушевилась жена, – напиши ребятам, они будут только рады тебе помочь.
– А Оля?
– С нами поедет.
– Лизочка, а как же ее музыка? Учительница говорит, что у Оли настоящий талант, и она станет выдающейся пианисткой, если не забросит.
– Слушай, музыкальная школа есть в любой дыре.
– Но ей нужны педагоги высокого класса. Или ты хочешь, чтобы она нас потом проклинала, что мы лишили ее блестящего будущего?
Лиза фыркнула:
– Я, Толя, хочу пожить нормально, пока мы молодые, а твоя мамаша еще не старая, потому что когда мы будем еще не старые, а она уже дряхлая бабка, кто будет выносить за ней горшки, если не я? Дерьма от нее я еще успею нахлебаться, дай хоть сейчас нормально подышать. Давай уедем, прошу тебя.
Анатолий притянул ее к себе, уткнулся носом в рыжую макушку. Аромат ее волос всегда сводил его с ума, и горький привкус табачного дыма ничего не испортил.
– Все будет хорошо, – прошептал он, – скоро мы получим квартиру.
– Ой, – отмахнулась Лиза.
– Нет, правда. В этот раз точно.
– И в тот раз было точно, и в позатот.
– Правда, Лизочка, совсем чуть-чуть осталось потерпеть.
Когда легли спать, то долго ждали, пока Оля в своем углу начитается и угомонится, и потом еще долго притворялись, что спят, чутко прислушиваясь к шорохам в квартире, как хищники в ночном лесу.
– Вроде тихо, – шепнул Анатолий, осторожно обнимая жену так, чтобы не скрипел диван.
Лиза еле слышно засмеялась и прижалась к нему, теплая, родная.
– Тише, тише…
Только он просунул руку под ночную рубашку жены и погладил теплое бедро, как в соседней комнате послышалась возня, через секунду отворилась дверь, и по полу расстелился длинный прямоугольник мягкого света. Анатолий еле успел откинуться на подушку.
– Чаю нужно попить, а то никак не уснуть, – сказала мама и проследовала на кухню.
– Здрасте, потрахались, – фыркнула жена и, отвернувшись, натянула одеяло на голову.
Анатолий лежал, слушал шум воды, потом хлопок включившейся газовой конфорки, звон посуды и прочие привычные звуки.
Вздохнул. Ему завтра во вторую смену, он может подождать, пока мама уснет, а Лизе на работу к восьми. Придется отложить на завтра, ибо выспаться важнее, только завтра маме снова чего-нибудь захочется среди ночи… Естественно, это не может быть не чем иным, как совпадением, но по странной случайности, как только он хотел заняться любовью с женой, мама тут же начинала колобродить. Почему так? Они с Лизой наловчились до такой степени, что их бесшумности позавидовали бы подводники и японские ниндзя, а мама все равно просыпалась.
Пару лет назад они заикнулись, что хорошо бы им переехать в маленькую комнату, а маме с Олей поселиться в большой, но проходной. От этого робкого намека сдетонировал такой мощный скандал, что Анатолий до сих пор вздрагивал при одном воспоминании. «А дальше что? – орала мама. – В дом престарелых меня сплавите или сразу на улицу?» И долго еще потом мама не отказывала себе в удовольствии при случае заметить, что она пустила в дом змею беспорточную, лису хитровыделанную, словом, не девушку, а какой-то ужасающий фольклорный персонаж.
Анатолий прижался к жене, она сердито дернула плечиком. Имеет право обижаться, с другой стороны… Ему легко вскрикивать: «Это же моя мать!», зная, что такое восклицание нечем парировать приличному человеку. Ну да, это его мама, она жизнь положила, чтобы его вырастить, души в нем не чаяла, всем пожертвовала ради него, и он должен быть ей благодарен, но Лиза-то ничем ей не обязана. Тут можно возразить, что именно мать мужа создала человека, с которым жене теперь так хорошо живется, поэтому надо ей поклониться в ножки. Наверное, справедливо, но конструкция умозрительная, ее можно понять, но трудно прочувствовать. Мораль моралью, а уживаться приходится двум посторонним женщинам, вот и все. Лиза еще хорошо держится, не хамит матери в глаза, только ему выплескивает обиду, а мама… Мама это мама.
Странное дело, она постоянно говорит, как любит сына, обожает внучку, и хоть жену он взял явно неудачную, свиристелку и неумеху, но она мирится с его выбором и изо всех сил поддерживает в семье лад и мир. И вроде бы так и есть, но почему-то в доме всегда царит какое-то напряжение, как будто гудит трансформатор. Со временем привыкаешь к его гулу, перестаешь обращать внимание, но все равно испытываешь огромное облегчение, когда его отключают.
Иногда мама уезжала к сестре погостить, и сразу будто открывалась форточка в затхлом помещении, дышать становилось радостно и свободно, Оля приводила домой подружек, а Лиза варила пельмени и суп из рыбных консервов, а Анатолий вспоминал о своем давнем хобби – выжигании по дереву, покупал в хозяйственном хлебную доску, доставал с антресолей верный приборчик «Узор-1» и приступал к работе, а жена и дочка с удовольствием нюхали сладковатый дымок тлеющего дерева и вспоминали, что так же пах костер, когда они в прошлом году ходили в настоящий поход с палаткой и варили в котелке кашу, вкуснее которой ничего не бывает. А потом мама возвращалась и говорила, как страшно по ним по всем соскучилась, и Анатолий на минуту верил, что и дальше жизнь пойдет уютно и хорошо, но тут же за чаем мама заводила заезженную пластинку о том, что сестре несказанно повезло, у нее-то невестка чудная девочка, уважает свекровь, большая редкость по нынешним временам, и вроде бы ни одного обидного слова, но будто химический состав воздуха менялся. Снова появлялись в доме обстоятельные солидные обеды, салат, суп, второе и десерт, воцарялись порядок и тишина, потому что не куролесили больше в доме Олины подружки, а «Узор-1» отправлялся обратно в ссылку на антресоли вместе с недоделанной доской.
И ведь кому пожаловаться – засмеют, мол, с жиру бесишься. Четыре человека в двух комнатах, пусть и смежных, считай, роскошь по нынешним временам. Мать здоровая, не лежачая после инсульта, дочь – отличница, жена – золото. Чего тебе еще надо? Зачем бога гневишь? Радуйся, дурак, тому, что есть, а то хуже будет!
Ах, тебе кажется, будто воздух пропитан какой-то непонятной отравой? Будто посреди дома установлена заряженная мина, и вы все ходите бочком, лишь бы ее не задеть? А ты вообще кто, мужик или истеричка? Все так живут, а ты что, сахарный?
Сахарный он или нет – вопрос спорный, а хочется, чтобы жена и дочка жили в радости, и самому приходить в уютный теплый дом, а не на минное поле. И второго ребенка хочется, чтобы сын родился, если, конечно, повезет, но и дочка тоже ничего. А может, сразу следом и третьего малыша стругануть, пока он еще сравнительно молод и силен.
Анатолий вздохнул. Когда вернулись в Ленинград, перед ним открывались широкие перспективы, но он специально пошел водителем на автопредприятие, чтобы получить квартиру. Мама с большим скрипом и скандалом согласилась прописать жену и дочь, плюс тут еще числилась сестра, жившая у мужа. Пять человек на сорок четыре метра – вполне весомый аргумент, чтобы встать на очередь и получить жилье без лишних проволочек. Он передовик производства, ударник коммунистического труда, победитель соцсоревнований, имеет государственные награды, в конце концов, не пьет, господи, да кому давать квартиру, как не ему? Анатолий думал, что получит квартиру года через три, и тогда можно будет слегка расслабиться, пойти доучиться в институт, а там выбиться в хоть небольшие начальнички. Прекрасный план у него был, только время шло, а очередь не двигалась. Иногда казалось, что вот-вот, уже начинала кружиться перед носом бумажка с ордером, только руку протяни и возьми, но находился кто-то попроворнее, и на долю Анатолия снова оставались неопределенность и ожидание.
…Мама наконец напилась чаю и проследовала в свою комнату. Подождав немного, Анатолий прислушался к дыханию Лизы. Нет, спит по-настоящему, и будить – свинство.
Он осторожно выбрался из-под одеяла, прокрался в кухню и тоже заварил себе чайку, не зажигая света. В темноте было не видно всякого хлама вроде старых банок, от которого мама категорически запрещала избавляться. Не вы покупали – не вам выбрасывать. Логично, конечно, только квартира, к сожалению, не резиновая.
Тут он вспомнил, что получит ордер совсем скоро, и повеселел. Буквально пару месяцев осталось помучиться, и все. И заживут, как сами хотят. Конечно, для этого придется ему совершить не совсем хороший поступок, отяготить совесть, но, с другой стороны, разве те, кто выхватывал у него квартиру из-под носа, поступали хорошо? Но они как-то договорились со своей совестью, поселившись на его законных метрах, значит, и у него тоже получится.
Мужчина прежде всего должен думать о своей семье, вот и все. Он просто не имеет права отнимать у них годы счастливой и спокойной жизни ради постороннего мужика, совесть которого уж точно не белее горного снега, если учесть, кто он такой.
Сентябрь
Алина Петровна вызывает меня к себе. Могла бы позвонить по местному телефону, но ей нравится раздавать указания лично. Приходится идти, хоть я ненавижу бывать в ее кабинете, который мог бы быть моим, но стал настолько ее, что и выглядит, как она сама, по-деловому и одновременно изящно. В громоздкой юбилейной вазе стоит букет роз, совсем свежий. Интересно, муж или коллеги? И по какому поводу?
Завидев меня на пороге, Алина Петровна ослепительно улыбается и встает мне навстречу.
– Инночка, дорогая, проходите, угощайтесь.
Она протягивает мне коробочку конфет, не иначе, белая госпожа знакомит дикарей с достижениями цивилизации.
Коробка действительно мудреная, в форме сердца, каждая конфетка завернута в яркую фольгу. В магазине такое не продается.
Я отказываюсь, но Алина Петровна настойчива. «Берите-берите!»
И все-таки нет. Я предлагаю перейти к делу.
– Ах, Инночка, проблемка пустяковая, – смеется начальница и тщательно закрывает дверь, – нужно всего лишь слегка поправить ваше заключение по той аварии.
Я делаю виноватое лицо, вспоминая, где могла напортачить. Вроде бы все по шаблону написала, данные перепроверила… Работа у меня скучная и однообразная, но я стараюсь, потому что это единственное, чем я могу еще чуть-чуть гордиться.
– Совсем капельку, – журчит Алина Петровна, – надо просто написать, что в крови пострадавшего не содержится следов алкоголя.
– Простите? – Я не так уж сильно удивлена этим предложением, но изображаю сильнейший шок, как викторианская старая дева, случайно увидевшая обнаженного мужчину.
– Ах, Инночка, не надо так остро реагировать, – начальница дарит мне одну из самых ослепительных своих улыбок, – просто вместо двоечки поставьте нолик, и все. Нужно, чтобы бедняга оказался трезв.
– Но анализ показывает, что он был пьян, как сапожник.
– Тише-тише, Инночка, успокойтесь и поймите, что это необходимо сделать.
– Вы предлагаете мне сознательно сфальсифицировать результат экспертизы? – теперь я изображаю праведное негодование и, в общем, не так уж сильно наигрываю.
– Ах, Инночка, здесь задействованы серьезные, можно сказать, политические интересы. Вам трудно это понять, вы исполнитель, а я руководитель и вижу всю картину в комплексе.
– Зато я вижу два промилле алкоголя, и долг запрещает мне сделать вид, будто я их не вижу.
Алина Петровна хмурится:
– Не получается у нас разговора, Инна Александровна.
– Не получается.
– Вы ведете себя, как ребенок. Ну хорошо, если вы не видите дальше своего носа, я скажу, что поддержка на таком уровне откроет большие возможности перед всем нашим отделением.
Я пожимаю плечами.
– Да, это и новое современное оборудование, и научная работа, в конце концов, новое здание. Все это у нас появится, если вы поправите в заключении одну-единственную цифру.
Знаю, что не стоит, но не могу удержаться:
– А зачем нам новое современное оборудование, если мы будем в заключениях писать не то, что есть, а то, что надо? Пишущими машинками обойдемся.
Начальница морщится и поправляет свою безукоризненную прическу.
– Ах, как все-таки с вами трудно, Инна Александровна! Видимо, придется вам напомнить, что вы – моя подчиненная и обязаны выполнять мои распоряжения.
Господи, как же хочется запустить руку в безупречную прическу и приложить эту самодовольную рожу об стол… Раз пятнадцать, пока нос не встретится с затылком. Сил у меня хватит. Видение настолько сладостное, что я на несколько секунд выпадаю из действительности, смакуя его.
– Что вы молчите? Согласны?
– Что? – вздрагиваю я. – Ах, да. Да-да, Алина Петровна. Все сделаю, только пишите приказ.
– В смысле?
– Вы же начальник, вот и пишите: я такая-то такая-то, приказываю такой-то и такой-то сфальсифицировать результаты экспертизы по делу такому-то. Срок исполнения – сегодня. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Впрочем, вы, руководитель, лучше меня должны знать, как это делается. Обещаю, что, как только получу приказ, немедленно его исполню, буквально в ту же самую секунду.
– Вы издеваетесь надо мной?
Улыбаюсь как можно простодушнее и развожу руками:
– Что вы, Алина Петровна… Как можно?
– Вы обязаны делать то, что я говорю, – чеканит начальница, – а поучать меня вы никакого права не имеете.
Она думает, что это звучит внушительно и грозно, поэтому я опускаю глаза.
Алина Петровна подходит ко мне ближе и шипит в самое ухо:
– Предупреждаю, или вы сделаете, что я говорю, или очень сильно пожалеете.
Я молча выхожу из кабинета. Навык сожаления о своих поступках и упущенных возможностях развит у меня очень сильно, поэтому я не боюсь ее угроз. Подумаешь, в общей куче я эту свою ошибку даже не замечу.
Весь день размышляю, не лучше ли сделать, как говорит Алина Петровна? В конце концов, если бы меня попросил о таком прежний начальник, то… Задумываюсь, согласилась бы я или нет, и успокаиваюсь только, когда понимаю, что Олег Иванович ни при каких обстоятельствах не предложил бы мне подобного. Если бы уж совсем край, то сам бы взял грех на душу.
С другой стороны, кому хуже от того, что пострадавшего признают трезвым? Вот если бы наоборот, трезвому нарисовать среднюю степень опьянения, тут да, а так-то…
Благое дело сделаю, принесу успокоение родным и, как утверждает Алина Петровна, пользу нашей лаборатории. Ответственная руководительница и заботница о подчиненных хочет чужими руками жар загребать, потому что если все откроется, то в тюрьму сяду я, а она ничего не знала.
Нет, не буду ничего исправлять. Профессиональная честь – единственное, что у меня осталось в этой жизни, если я и ее пущу на ветер, как все остальное, то можно сразу в петлю.
По дороге домой притормаживаю возле кондитерского отдела. Нечего мне там делать, но надо же как-то вознаградить себя за пережитое волнение, поэтому захожу внутрь и покупаю небольшой квадратный тортик с розочками. В программе телевизора сегодня вечером заявлен хороший фильм, буду смотреть его под чай с тортом, и хоть полтора часа отдохну от глухой ненависти, бесплодных сожалений и смутных тревог.
Дома переодеваюсь в любимый фланелевый халат, ставлю чайник и, пока он закипает, пробегаю глазами по книжным полкам. Фильм начнется только через час, а пока единственное спасение от беспросветности бытия – это книга.
Смотрю на корешки, но ничего не вдохновляет. Вздыхаю. Нет мужа – значит некому собрать двадцать килограммов макулатуры, чтобы получить талон на хорошую книгу, и подруг нет, обмениваться не с кем. Тоска…
Вдруг раздается резкий звук. Черт, ко мне так редко ходят гости, что я не сразу соображаю, что это дверной звонок. Я заглядываю в глазок, и сердце екает. На площадке нетерпеливо переминается с ноги на ногу Мануйлов, дражайший супруг Алины Петровны. Когда-то я мечтала об этом, но сегодня слишком хорошо понимаю, зачем он здесь, поэтому отбрасываю мысль переодеться и открываю прямо так, в халате.
Войдя, он озирается и тяжело вздыхает. Красивое лицо мудро, печально и доброжелательно. Я выдавливаю из себя ностальгическую улыбку, хотя знаю, что единственное, что он сейчас испытывает, это сожаление, что проблему нельзя обсудить по телефону.
– Ничего не изменилось, – произносит он, садясь на старый венский стул.
Я остаюсь стоять. Делиться с ним своим тортиком не собираюсь.
Выдержав эффектную паузу, гость насупливает брови, отчего становится особенно похож на артиста Тимоти Далтона из многосерийного фильма «Джен Эйр», который недавно показывали по телевизору.
– Что это за выходки ты себе позволяешь? – сурово спрашивает он.
Пожимаю плечами.
– Алина – твоя начальница, нравится тебе это или нет, и ты обязана делать то, что она говорит.
– Извини, но в данном случае это не работает. Она может поручить мне провести экспертизу, при соблюдении определенных правил может приказать мне сделать это сверхурочно, может по производственной необходимости перевести меня на другую работу, словом, довольно много всякого Трудовой кодекс позволяет ей со мной сделать, но влиять на результат экспертизы она не может никак, уж прости. Тут я должна довериться биосредам и реактивам.
Мануйлов закидывает ногу на ногу, глядит на меня исподлобья и бурчит, что не надо притворяться дурой и объяснять ему прописные истины.
Я пожимаю плечами и не понимаю, больно мне или нет. Вроде что-то ноет, как старые шрамы на непогоду, но не тянет даже на тень былых страданий.
– Ты где вообще живешь? В хрустальном замке?
– Как сам видишь, нет.
– Так какого черта выделываешься, как вошь на гребешке? Можно подумать, ты ни разу не мухлевала с результатами!
– Ни разу.
– Да ладно! – Он смеется, раздельно выговаривая каждое «ха», будто выбивает азбуку Морзе, – никогда в это не поверю.
– Дело твое.
– Ты вообще понимаешь, какие это люди и что они с нами сделают, если мы не пойдем им навстречу?
Я смеюсь:
– Да? И как, интересно, они собираются сделать мою жизнь еще хуже, чем сейчас? Лично мне такой способ неведом.
– Будешь дальше выделываться, так немедленно узнаешь.
– Слушай, дорогой, – говорю я, – ты так хорошо по мне проехался, что уверяю тебя – даже если меня расстреляют, будет только лучше.
Мануйлов морщится:
– Знаешь что, Иннуля, не надо песен! Мы оба знаем, кто из нас виноват.
Пожимаю плечами. Видимо, имеюсь в виду я, что ж, ничего нового. Одинокие люди всегда сами во всем виноваты. Мой гость шарит по карманам и, не спросясь, закуривает. Я молча смотрю, как он привычным, машинальным жестом подвигает к себе хрустальную пепельницу. Да, она стоит там же, где и шесть лет назад, я не выкинула ее и не разбила, хотя сама не курю. Он закидывает ногу на ногу, стул под ним тоскливо скрипит. Потяжелел седок, заматерел…
– Сейчас не время сводить старые счеты, – бросает Мануйлов между затяжками, – и от твоего ослиного упрямства пострадаешь, кстати, прежде всего ты.
– Спасибо за заботу, но не волнуйся обо мне. Я привыкла к неприятностям.
– Значит, нет?
– Нет.
Мануйлов с силой тушит сигарету в моей пепельнице и встает. Глаза белеют, лицо искажается. Он гневлив, я помню.
Он подходит близко, как для поцелуя, и смотрит сверху вниз.
– Значит, так! Завтра ты пойдешь на работу и напишешь то, что тебе говорят, – шипит он.
Я смотрю, как в уголках его рта мелко пузырится слюна, и думаю, что нужно обещать все что угодно лишь бы только он ушел, но какой-то черт толкает меня под руку, и я говорю, что фальсифицировать заключение не стану.
– Да что ты о себе возомнила, корова! – орет Мануйлов. – Ты никто и звать тебя никак. Завтра передадим другому эксперту, а тебя пинком под зад.
Я делаю вид, что смеюсь:
– Простите, а у нас разве вернули крепостное право?
– Для таких как ты и не отменяли его, уж не сомневайся. Три опоздания, и полетишь по статье, а мы еще тебя дерьмецом польем так, что никуда в приличное место на работу не возьмут.
Мануйлов успокаивается, снова опускается на стул и закуривает новую сигарету.
– Вывела меня, дура!
– Тебя сюда никто не звал.
Обида легонько колет мелкими иголочками, как бывает, когда восстанавливается кровоток в замерзших руках или ногах, но я знаю, что поддаваться ей нельзя. Не дай бог выйти из равновесия, встретиться лицом к лицу с собой и понять, как чудовищно ты изуродовала своими собственными руками свою собственную единственную и неповторимую жизнь. Если осознать, что с тобой на самом деле происходит, то рухнешь в бездну, на дне которой или самоубийство, или беспросветный алкоголизм, что по большому счету тот же суицид, только растянутый во времени.
Нет, если думать, вспоминать и сердиться, то пропадешь. Только апатия и чай с тортиком, ибо единственное спасение – это анабиоз.
– Господи, какое счастье, что я на тебе не женился, – вздыхает Мануйлов, – а ведь хотел.
– Не ври!
– Хотел, но, слава богу, вовремя понял, что с тобой что-то не так.
– И что же? – спрашиваю, хотя ясно, что не надо.
Мануйлов смеется:
– Да ты в зеркало на себя посмотри! Раскисшая баба! Ну что ты лезешь со свиным рылом, что строишь из себя, я же помню, что ты дерьмо готова была жрать с лопаты ради лишнего рубля, а тут вдруг принципиальность взялась не пойми откуда.
Нет, нельзя его слушать, он специально так говорит, от злости.
Тем временем Мануйлов достает из внутреннего кармана пиджака бумажник и вынимает оттуда розовую купюру:
– Хочешь?
– Убери.
– Ты же за копейку удавишься!
– Ничего подобного.
– Неужели? А что ж магнитофон мне не отдала? Кстати, я через полгода уже купил новый, так что не думай, что ты сильно меня тогда уела.
Точно, магнитофон, серебристый «Шарп», чудо техники, последний на тот момент писк моды, лежит у меня в дальней кухонной тумбочке вместе с тяжелой латунной ступкой, туркой и формочками для печенья. Это утварь для семейных людей, поэтому тумбочка не открывалась уже много лет.
Тогда я думала, что он откладывает деньги на нашу свадьбу, а он купил магнитофон и женился на Алине Петровне.
Я не отдала «Шарп» не потому, что он был куплен на мои средства, хотя, в сущности, дело обстояло именно так, все бытовые расходы лежали на мне, нет, я притырила его из совсем других соображений. Все было сказано, точки над «и» расставлены жестко, но я почему-то надеялась, что он придет за магнитофоном и тогда я найду какие-то волшебные слова и смогу уговорить его остаться.
Это японское техническое чудо, приобретенное у какого-то морячка, было моим последним шансом на счастье.