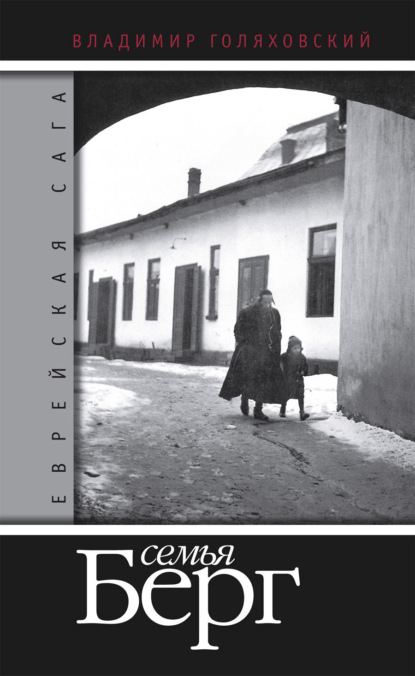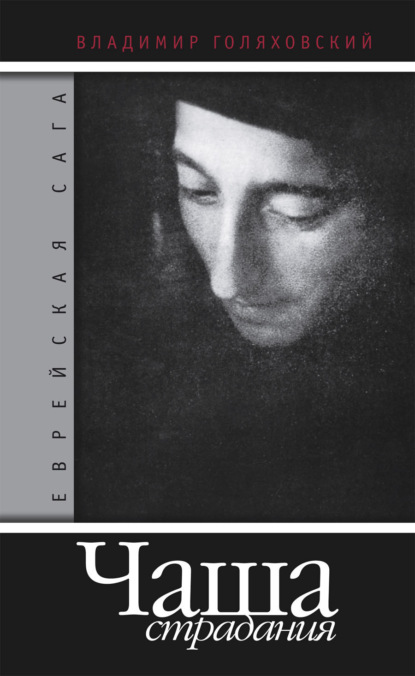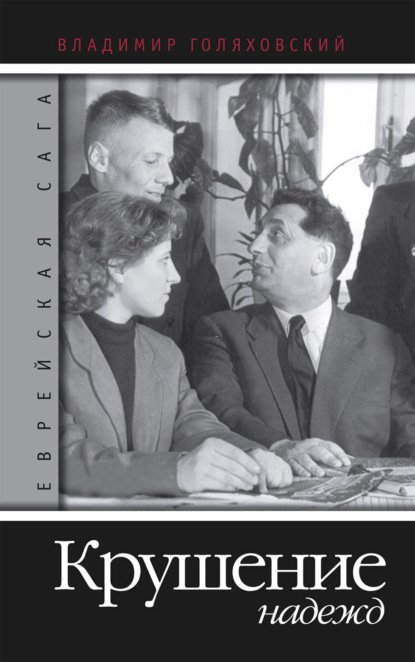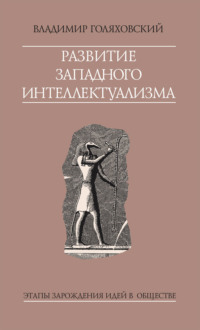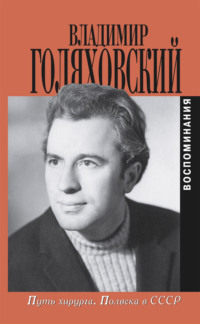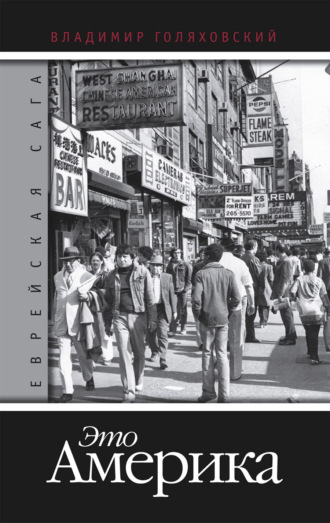
Полная версия
Это Америка
– А что хуже – быть евреем или албанцем?
– Как тебе сказать?.. Албанцы здесь чужаки, большая редкость. А русские чужакам не доверяют и их не любят.
– А евреи?
– Евреев, хоть они и свои, многие русские не любят еще больше. Обе национальности здесь не приветствуются. Дело в отношении людей к тебе.
– Мне плевать на отношения, я все равно никого не боюсь! – выпалил Лешка. – Ну, а к кому все-таки хуже относятся – к албанцам или к евреям?
Обсуждали всей семьей, и получилось, что к евреям все же относятся хуже и Лешке для будущего лучше не быть евреем. Так он стал албанцем, но воспринимал это насмешливо, часто говорил:
– Ребята дразнят меня албанцем. Мне-то плевать, ну какой я албанец?..
Когда Лиля сердилась на сына, то кричала: «Настоящий албанец, мусульманин!», а он смеялся: «Ведь если б я записался евреем, ты называла бы меня настоящим жидом».
Но в теперешней ситуации, когда Алешу могли выслать каждый день и Лиля решила подавать заявление на эмиграцию, медлить с разговором об отъезде уже было нельзя.
И вот они с Алешей усадили сына для серьезного разговора.
– Ты парень большой, надо поговорить, – сказала ему Лиля. – Мы собираемся подать заявление на отъезд.
– Куда? – насторожился Лешка.
– Мы хотим ехать в Америку.
– В Америку? Вот здорово! Тогда я стану американцем.
– Да, станешь, если разрешат уехать. Но подавать документы надо на отъезд в Израиль.
– В Израиль я не хочу, израильтянином не буду.
– Пойми, важно получить разрешение на выезд, оно дается только в Израиль. А дальше, уже в Европе, можно выбирать страну. Но ты должен молчать об этом, чтобы не пошли слухи.
– Я-то не разболтаю, мне наплевать. Только вы напрасно думаете, что никто об этом не догадывается. Ребята говорили, что Алешу высылают, и спрашивали меня, поеду ли я с ним.
Родители переглянулись, и Алеша сказал:
– Да, меня высылают. Но почему ты нам ничего не сказал об этих разговорах?
– Ха! А вы сами мне говорили? Раз вы мне ничего не говорили, то и я не рассказывал. Я что, не видел ваши чемоданы? Мы поедем все вместе?
– Вместе нельзя, потому что мы официально не зарегистрированы, – объяснила Лиля. – Нам с тобой надо подавать заявление на выезд в Израиль.
– Значит, зря я записался албанцем? Все говорят, что евреев лучше выпускают.
– Да, это так. Но все равно, в документах будет записано, что у тебя мать еврейка. А по еврейским законам национальность определяется по матери.
– Выходит, я все-таки еврей?
– Выходит, что еврей.
– Тогда получается, что евреем быть лучше. Но вы обещаете, что мы поедем в Америку?
– Обещаем.
На этом Лешка успокоился.
3. «Муравейник из двух муравьев»
Лилю с Алешей одолевала тревога: как быть с родителями – взять их с собой или оставлять одних? У Лили сомнений не было – оставлять стариков одних нельзя. Павлу уже 75, он сильно сдал; Августе – 73, она пока здорова и бодра, но сколько это может продлиться? И все же, если их взять, то как они перенесут тяжелый путь, как приспособятся к тяготам эмиграции, как адаптируются в новых условиях? Получалось, что оставлять их страшно, а брать с собой – опасно. Да и захотят ли они ехать? Они живут своей налаженной жизнью и довольны ею.
Действительно, Павел с Августой жили привычной суетливой жизнью старых людей. Августа с горькой иронией называла ее «наш муравейник из двух старых муравьев». Теперь этот «муравейник» был растревожен. Они расстраивались из-за судьбы детей и обсуждали между собой – ехать им с Лилей или оставаться и доживать одним. Как только просыпались, начинали думать, спорить, даже сердиться друг на друга и оба потихоньку принимали успокоительные. Павел вообще, став ворчливым, постоянно пререкался с Августой. Ей все тяжелей было с ним справляться.
Каждый раз, как Лиля заводила разговор и предлагала: «Папа, Авочка, вы должны ехать с нами», Павел хмурился и отрицательно качал головой.
– Доченька, ну зачем мы поедем? Больно нам расставаться с вами, но мы не поедем. Вам надо устраивать там свои жизни, вам еще жить да жить, а мы свои уже прожили. Иммиграция – это болезненный процесс, его можно сравнить с пересадкой деревьев. Чем дерево моложе, тем легче оно приживается на новой почве, а старые деревья болеют и сохнут, а потом умирают. Вы – деревья молодые, вы приживетесь. А мы с Авочкой не сможем прижиться на новой почве. Что я стану там делать? Превращусь в вечно ворчащую никчемность. Авочка легче привыкает, но и ей это будет тяжело. Мы впадем в ничтожество и станем вам обузой.
– Папа, что ты говоришь – как вы можете быть нам обузой?
Августа, русская женщина, не была «идише мама», типичной «еврейской мамой», не считала, что вся жизнь только в детях, и отвечала, глядя на Алешу:
– Сыночек, конечно, я буду тосковать по тебе и по Лиле с Лешкой. Но Павлик прав – наши жизни уже прожиты. Мы останемся здесь.
Дома Лиля тяжело вздыхала и с отчаянием говорила Алеше:
– Я просто разрываюсь пополам – я не могу лишиться тебя и не могу бросить отца с Авочкой. Что будет с ними здесь, если кто-то из них тяжело заболеет, умрет? Тогда другой останется один. Как я смогу помочь им оттуда, откуда нет возращения?
Алеша старался успокоить ее:
– Я тоже переживаю за них. Но они так решили, у них своя логика. К тому же ты даже не знаешь, на что их обречешь, если возьмешь с собой. Они люди общительные и привыкли жить широко. Там они будут тосковать по привычному окружению, по знакомым, впадут в депрессию. Павлик – человек громадного интеллекта. Он прав: что он станет делать в чуждом ему окружении?
* * *После выхода на пенсию Павел некоторое время писал эссе «Русский характер»[3], был вдохновлен творческой работой, занят и бодр. Августа с любовью наблюдала, как он с утра рвался к пишущей машинке, как горели его глаза, как хотел он поделиться с ней мыслями и прочесть написанные фрагменты.
Теперь, под влиянием грустных разговоров и мыслей, Павел стал впадать в ленивую рассеянность. Старики сдают раньше своих сверстниц, впадают в апатию, страдают от своей забывчивости. Он вздыхал и часто повторял:
– Уходит из меня joie de vivre, радость жизни. Мы наши жизни уже не живем, мы их доживаем. Многое человек может преодолеть, но как преодолеть груз старости?
Августа с тревогой замечала, как он опускался внешне и внутренне, становился зависимым от нее в мелочах, повторял за ней, как эхо, ждал от нее указаний – что ему делать. Она просила:
– А ты бы сходил, купил хлеба.
И он послушно тащился за хлебом, неся плетеную сумку-авоську в кармане.
Или:
– А ты бы сходил на рынок, купил картошки.
И он тащился на рынок, стоял в длинных очередях, ворчал.
– А ты бы пошел в ванную, помылся.
Он вяло шел в ванную и кричал ей оттуда:
– Авочка, а что мне мыть?
Так Павел становился стариком «атыбы». Выражение его лица изменилось, огненный когда-то взгляд остыл, углы рта опустились, он забывал бриться. Как многие старики, он стал мнительным, все время прислушивался к своему здоровью, щупал пульс, подолгу сидел в очередях на прием к врачам в поликлинике Литфонда, просил измерить ему давление.
– Сегодня у вас очень хорошее давление: 140 на 75, – говорили ему.
Но Павел был недоволен, почти впадал в панику:
– Как же так? Вчера ведь было на пять делений ниже – 135. Значит, повысилось.
– Это не повышение, давление всегда слегка колеблется, – объясняла сестра.
Много забот было у Августы со стареющим Павлом. Она всячески старалась подбодрить его, купила ему «джентльменский набор» – модную шубу-дубленку, пыжиковую шапку-ушанку и красивое мохеровое кашне. Она надеялась, что новые вещи придадут ему бодрости, и почти насильно выводила его гулять в Тимирязевский парк, брала с собой на почту, в прачечную. Павел считал, что дома помогает Августе готовить, и топтался на кухне, когда она хозяйничала, а на самом деле только мешал ей. Она отсылала его к телевизору или книгам, но телевизор Павел не любил, называл его «домашним оглупителем» и смотрел только передачи «Клуба путешественников» и «Очевидное – невероятное». Газеты «Известия» и «Литературная Газета» выводили его из себя, он бросал их в сторону с ворчанием:
– Совершенно невозможно читать – разве это журналисты?! Разве такие журналисты были в наше время? Вот, помню, в тридцатые годы был Михаил Кольцов…
Жена прерывала его:
– Я согласна. Но где теперь Кольцов? Давно расстрелян[4].
– Вот в том-то и дело – кошмарная страна, кошмарное руководство.
Августа считала, что ему нужна мужская компания:
– Иди погуляй с другими мужчинами. Вон твой друг, Лева Копелев, ходит перед домом. Он любит рассуждать и всегда окружен людьми. Иди пройдись с ним, поучись у него бодрости.
Павел скептически замечал:
– Какой бодрости? Помнишь?
Нет во мне ни бодрости, ни таланта,Когда тело мое стареет.Когда впавшего в детство КантаКормят с ложки его лакеи.Сильная духом и мудрая Августа с тревогой наблюдала изменения в Павле и наконец строго сказала ему:
– Ты опускаешься. Ты всегда был бравый мужчина, а превращаешься в тряпку. Не давай старости завладеть собой.
Павел смотрел на нее расстроенно, потом заплакал, обнял:
– Говорят, что жена всегда права. Да, так и есть. Лень ведет меня к гибели ума. Еще Аристотель писал: «Лень в старости – это грех». Я чувствую, что уступаю себя какому-то необъяснимому расслаблению мыслей и чувств. Спасибо тебе, дорогая моя, старикам так важно следить друг за другом.
И Павел начал постепенно оживать. После завтрака он надевал новую дубленку и шапку и шел встречаться с Копелевым, известным диссидентом, которого даже в старости все звали «Лева». Павел говорил ему, указывая на бороду:
– Вы, Лева, похожи на апостола Павла с картины Эль Греко.
Копелев громко смеялся:
– Ха-ха-ха, какой я апостол Павел? Это вы Павел, вас и надо считать апостолом.
Копелев был «духовным главой» диссидентского движения. Его исключили из Союза писателей и уволили с работы за подписание писем против преследования диссидентов. Ему запретили преподавать и публиковаться, и сейчас он писал первую из трех книг воспоминаний: «И сотворил себе кумира…». Копелев охотно делился мыслями с Павлом:
– В своей книге я рассказываю о сознании собственной вины из-за того, что поверил в идею коммунизма[5].
Они ходили возле домов писательского кооператива и рассуждали. Самой живой была тема о том, когда и как распадется Советский Союз. Копелев громоподобно вещал:
– Обязательно развалится к 1990 году. И с ним закончится эпоха сожалений.
* * *Лиля заметила в отце перемену и еще раз подняла вопрос об отъезде, но он сказал:
– Доченька, не обижайся, что мы отказываемся. В нашем возрасте очень тяжело менять стиль и условия жизни, это приводит к страданиям души и тела, выбивает из седла, так сказать. Хоть я много выстрадал в России, но не хочу ее покидать. Я участвовал в ее создании и считаю сегодняшнюю Россию, какая она есть, своим творением тоже. Я отвоевывал ее у белогвардейцев, вносил свою лепту в ее новую культуру. И к тому же я ведь историк. Если мне суждено, я хочу дожить до тех перемен, которые должны вот-вот грянуть: Советский Союз скоро распадется. Я хочу быть свидетелем такого эпохального события.
– Папа, но откуда у тебя такая уверенность, что Советский Союз распадется? Если это и произойдет, ты сможешь наблюдать это издалека.
– Нет, издалека всего не разглядишь. Я русский историк и хочу видеть историю России своими глазами.
4. Алешу высылают
Вернувшись из Чистополя, Алеша сказал Моне Генделю: – Помнишь, мы не могли найти царские золотые монеты? Теперь я привез полные штаны – 50 штук по 10 и 20 рублей. И все – червонным золотом.
– Алешка, что я слышу! Оказывается, усраться можно и золотом. Ну, теперь тебя не только не вышлют, а будут беречь как зеницу ока.
– Можешь узнать цену у валютчиков? – спросил Алеша.
– Валютчиков всех пересажали. Но я все-таки узнаю.
Монеты оценили в двадцать одну тысячу рублей. Таких денег у Алеши не было, и он решил продать машину – все равно недолго ездить. В России частных машин было мало, на черном рынке подержанные стоили дороже новых.
Вездесущий Моня нашел покупателя. Тогда Алеша объяснил Августе:
– Мама, у меня уже есть часть денег, но еще не все.
– Сыночек, сколько нужно отдать? Я дам, сколько надо.
– Спасибо. Я сказал Наде, что монеты покупаешь ты, поэтому сама дай ей деньги…
* * *Саша Фисатов привез Надю с Александрой в Москву, в свою двухкомнатную квартиру. Их визит к Бергам превратился в событие. Саша, как вошел, радостно воскликнул:
– Дядя Павел, тетя Авочка, это моя Надя и наша дочь Александра!
Августа всплеснула руками:
– Как мы рады наконец увидеть вас! Саша так много раз рассказывал о встрече с Надей. И вот мы видим вас вместе.
Все расцеловались, и Саша бережно поставил на тумбочку фанерный ящик.
– Это вам подарок от Нади и Александры.
Он открыл крышку. Внутри лежал большой кусок копченого окорока. Надя смущенно объяснила:
– Вы уж не удивляйтесь, как говорится. Мы с дочкой думали-думали, чего подарить таким людям, как вы, и решили – окорочок, от кабанчика нашего, сами ведь вырастили. Чем богаты, тем и рады.
Подарок был неожиданный и несколько странный. Августа умело скрыла удивление за каскадом восторгов:
– Целый окорок! Я сто лет такого не видела. Какая прелесть! Спасибо, дорогие наши. А теперь милости просим, пожалуйте, дорогие гости, к столу.
Большой стол был изысканно сервирован, гости поражались красоте посуды, осматривали мебель, картины в рамах, смущенно и растерянно улыбались:
– Как у вас красиво-то!
Августа держалась с Надей как со старой знакомой, она всегда умела уважительно общаться с людьми самого разного уровня. Саша переводил восторженные взгляды с одной на другую: его любовь легко уравнивала Надю с Августой.
После ужина Августа позвала Надю в спальню:
– У меня к вам есть женский разговор.
Поговорив немного о том о сем, Августа сказала:
– Ваши монеты оценили в двадцать одну тысячу. Я знаю, Саша не хочет говорить об этом.
– Да, не хочет. Он такой странный. Я ведь почему монеты-то продать решила – чтобы Александре купить бриллиантовые сережки, колечки разные, драгоценности, так сказать. А то у других-то есть, а у Александры-то нет.
– Да, я понимаю. Это очень правильно. Если вас эта сумма устраивает, то вот, я приготовила деньги – здесь двадцать одна пачка по тысяче, – Августа передала ей туго набитую вышитую сумочку. – Спасибо за монеты, они очень красивые.
В это время за столом Лиля сказала Саше, что Алешу высылают за границу.
– Как высылают, за что?! – Саша вскочил, пораженный.
Алеша стал рассказывать:
– Высылают, как многих других, – неугоден властям. Меня решили наказать изгнанием, как наказали Бродского, Солженицына, Галича, Ростроповича.
– А ты, Лиля, тоже с ним поедешь?
– Я хотела бы, но не могу – мы не зарегистрированы. Но я с Лешкой подам заявление на эмиграцию в Израиль. А потом мы с Алешей встретимся в Европе и вместе уедем в Америку.
– В Америку? Вы хотите ехать в Америку? Если вы окажетесь в Нью-Йорке, обязательно разыщите там Зику Глика, моего хорошего друга.
Тут Алеша решился сказать:
– Саша, я тебе признаюсь: мы ведь купили у Нади золотые монеты, чтобы переправить их за границу и там продать.
– Чтобы переправить… – поразился Саша. – Вас же арестуют!
– У нас есть хороший друг, который может это сделать.
– Вот оно что… А я-то удивлялся – зачем тете Авочке монеты?
– Ты уж нас извини, мы не хотели тогда в Чистополе все выкладывать при Наде.
До конца вечера обескураженный Саша сидел молча, опустив голову. Когда Надя с Александрой вернулись в столовую, они не могли понять, что с ним произошло. Смущенно посматривая на него, Надя определила по-своему:
– Да, похоже, перепил мой Саша, так сказать.
* * *Вскоре из Бельгии вновь приехал по делам Николай Савицкий. Алеша с Лилей рассказали ему о своих планах и попросили:
– У нас к вам громадная просьба: вы говорили, что смогли бы перевезти оригиналы наших дипломов и золото. Оригиналы документов эмигрантам вывозить не разрешают. А нам еще удалось купить пятьдесят царских монет червонного золота. Можете вы перевезти их?
– Конечно. Документы я заложу в свои деловые бумаги, а золото распределю по карманам и положу в бумажник. Дайте только знать, когда поедете в Европу, мы с вашей тетушкой Бертой встретим вас, и я отдам все обратно.
Алеша был рад, что договорился с Савицким, дома говорил Лиле:
– Ну, теперь я успокоился: даже если вы раньше попадете в Америку одни, вам с Лешкой на первое время средств хватит. Там золото покупают и продают свободно.
– Как и кому я его продам, за какую цену? Я не смогу. Ты приедешь и продашь.
– Но пока я приеду, может пройти много времени. На что ты будешь жить? Продашь монеты, и у тебя будут деньги.
– Не умею я этого делать и не хочу. Приедешь – сам продавай, – рассердилась Лиля.
– Если женщина сердится, значит, она не только неправа, но и понимает это. Ты говоришь глупости. Взгляни на вещи по-деловому.
Лиля собралась заплакать, но в этот момент раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть так поздно? На пороге стоял участковый милиционер капитан Семушкин:
– Примите повестку и распишитесь.
Алеша прочитал, закусил губу и посмотрел на Лилю. Она заглянула в бумагу – это было предписание явиться завтра для досмотра вещей в аэропорт «Шереметьево», а на следующий день утром – на вылет. Куда вылет, сказано не было.
Лиля повисла у мужа на шее и разрыдалась.
* * *На досмотр вещей в Шереметьево Алешу с Лилей вез Моня. По дороге он рассказал:
– Ребята, на днях я играл в преферанс не с кем-нибудь, а с самим начальником ОВИРа генералом Верейным. Довольно развитой оказался мужик. Ему сказали, что я никогда не проигрываю, и он загорелся желанием обыграть меня. Конечно, я выиграл, но умеренно. Тем временем у меня созрел план: когда Лиля подаст заявление на отъезд, я опять сяду с ним играть и специально проиграю. Он размякнет, и я попрошу его взять дело под свой контроль. Так Лиля быстрей получит разрешение на выезд.
– Думаешь, тебе и это удастся?
– Да я ж проницательный еврей! Я к нему присмотрелся, вижу – взятку возьмет, но лишь тонко преподнесенную. Я проиграю ему тысячу, а взятка преферансом – та же взятка.
– Монька, если тебе это удастся, я окончательно уверую в то, что ты гений.
– Старик, какие счеты? На то мы и друзья. А хочешь сделать мне приятное, тогда вот что: помнишь, я подавал тебе идею написать за рубежом роман «Еврейская сага»?
– Помню, я даже обдумывал уже план.
– Так вот… Опиши меня в твоем романе.
– Монька, уж тебя-то я обязательно опишу. Не знаю, осилю я роман или нет, но обещаю – без твоей проницательной особы он не выйдет. Каким ты хочешь в нем быть?
– Еврею нужна не слава, ему нужно дело. Опиши, как Леон Фейхтвангер описал еврея Зюсса[6].
– Как Фейхтвангер не смогу – кишка тонка.
И все трое рассмеялись.
– Старик, я думаю, тебя пошлют в Вену, по пути еврейских эмигрантов.
– А я думаю – в Прагу. В Вене я растворюсь, а в Праге им будет легче следить за мной.
Лиля возмутилась:
– До чего бесчеловечна наша власть, даже высылая человека, ему не говорят – куда.
– Солженицыну тоже не говорили, да и многим другим, – грустно сказал Алеша.
* * *В Шереметьево толпились пассажиры, встречающие и провожающие. Аэропорт буквально кишел агентами госбезопасности в штатском. Все было устроено так, чтобы они могли следить за людскими потоками. Из дальнего конца зала слышались крики и плач – там на досмотре шмонали евреев, эмигрирующих в Израиль. Чтобы они не вступали в контакт с иностранцами и корреспондентами, им выделили дальний конец зала. Досмотр начинался в семь часов утра и шел целый день. Отбывающие в чужой мир стремились взять с собой как можно больше, а разрешали им вывозить как можно меньше; имелся короткий список разрешенного и длинный список запрещенного к вывозу. Но евреи придумывали свои ходы и старались обмануть бдительных таможенников, спрятать, подложить что-нибудь еще. Таможенники «досматривали» строго, все вызывало у них подозрение, и обмануть их было нелегко. Обстоятельно, с мрачными лицами, они выкладывали вещи на длинные столы и тщательно проверяли. Хозяевам вещей полагалось стоять в стороне, и они нервно вытягивали шеи, следили – что делают с их вещами, волновались, пожилые женщины плакали:
– Как это нельзя брошку провезти? Ведь это единственная память о моей маме.
Но спорить с таможенниками было бесполезно.
– Как все это унизительно, – прошептала Лиля.
Алеша хмуро наблюдал – он должен был проходить процедуру вместе со всеми. Моня говорил ему на ухо:
– Старик, ты, как всякий поэт, – человек эмоциональный, горячий. Когда тебя станут шмонать, возьми себя в руки, не горячись, не пререкайся с этими сволочами.
Наконец дошла очередь до чемоданов Алеши. У таможенников вызвала подозрение пишущая машинка «Эрика», они перевернули ее, заглянули внутрь, освещали фонариком дно – не спрятано ли там что, долго трясли машинку, но из нее, как ни странно, ничего не выпало. Потом долго перелистывали книги, искали – не запрятаны ли там рукописи. Половину книг отложили:
– Издания до 1935 года к вывозу запрещены.
Алеша пытался спорить, Моня стоял сзади и дергал его за пиджак.
Домой возвращались уже поздно. Возле подъезда Моня с Алешей вышли из машины. Моня грустно сказал:
– Ну, старик, что тебе сказать? Знаешь, как писал Байрон: Fare thee well, and if for ever, still for ever fare thee well[7]. «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» Больше двадцати лет, старик, твоя дружба значила для меня очень много. Я горжусь твоей дружбой, ты всегда был одним из самых близких. Ну, прощай, главное – будь здоров и благополучен.
– Прощай, Монька, – Алеша говорил с трудом. – Спасибо тебе за все наши годы вместе. Твоя дружба помогала мне расти. Меня-то обратно не впустят, а ты постарайся вырваться ко мне, где бы я ни был. И пожалуйста, помогай Лиле, пока она тут одна.
– Конечно, старик, на то мы и друзья, – сказал Моня.
Они обнялись, и Лиля молча смотрела, как плачут двое немолодых мужчин.
В последний раз на квартире Павла и Августы собралась вся семья. Как всегда, их уже ждал накрытый Августой стол.
– Что вы так поздно? – недовольно пробурчал Павел. – Мы с Авочкой заждались.
– Долго шмонали, там собралось много евреев, и меня досматривали с ними.
– Что это за слово такое неприятное? – спросила Августа.
– Жаргон, от еврейского слова шмон — беспорядок, шумиха.
– Но тебе сказали, куда высылают?
– Нет, до сих пор не знаю, думаю – или в Вену, или в Прагу.
Августа хлопотала у стола, не сводя глаз с сына.
– Садитесь, дети, садитесь за стол. Ты, сыночек, устал, наверное?
Павел разлил по бокалам вино:
– Ну, дорогой наш сын, за твое благополучное приземление, где бы ни было. Как только прилетишь, сразу пошли нам телеграмму.
Алеша поднял бокал:
– Мама, Павлик, вся моя дорогая семья! Это моя последняя ночь в Москве, в России, но я с вами не прощаюсь. Лилю с Лешкой я надеюсь увидеть скоро, но и вас, дорогие мои, я все равно еще увижу. Горько мне расставаться с тобой, мама, и с тобой, Павлик. Но мне не жалко расставаться с Россией. Я никогда не был патриотом-идиотом, любящим свою страну только за то, что в ней родился. У меня нет предрассудков такого рода. По-моему, любовь к стране должна основываться на уважении к ней, к ее истории, к ее общественному устройству. Но у России не было и нет ни достойной истории, ни человеческого устройства. Во мне накопилось много горечи и обиды на мою страну. Если я что русское люблю, так только русскую литературу и искусство. Недавно я ходил в последний раз на лыжах в Опалихе. Места там хорошие, настоящая русская природа. Я шел по лыжне и ясно почувствовал – и природу эту мне тоже не жалко покинуть. И я написал стихотворение:
Я не кинусь тебе на шею,Не возьму с собой прах твой, Русь;Покидаю и не жалею,Никогда к тебе не вернусь.Ни березки твои, ни раздольеНе заманят меня назад,Без тоски и сердечной болиЯ расстаться с тобою рад.Не придет ко мне ностальгия,Не заставит меня грустить.Все мне чуждо в тебе, Россия,Все мне хочется позабыть.С минуту все молчали, а потом Павел тяжело вздохнул:
– Да, вот до чего нас довели – загнанный человек перестает любить свою страну.
Августа заплакала:
– Сыночек, это очень прочувствованные стихи, прекрасные. Я так люблю твои стихи, помню их наизусть, повторяю про себя. Неужели я никогда не услышу, как ты сам их читаешь?