
Полная версия
Записки

Императрица Екатерина Вторая
Записки, начатые 21 апреля 1771 года и продолженные в 1791 году
Тексты публикуются по изданию:
Записки
императрицы Екатерины Второй
Издание А.С.Суворина
С.-Петербург
1907
Записки, начатые 21 апреля 1771 года
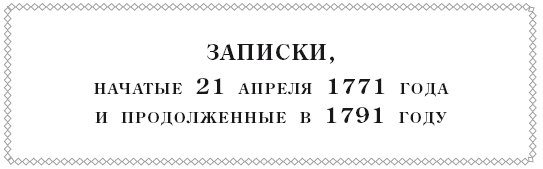
Первая часть
Посвящается другу моему, графине Брюс, урожденной графине Румянцевой, которой могу сказать всё, не опасаясь последствий
Я родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года (тому сегодня 42 года) в Штеттине, в Померании. Мне рассказывали, что, так как желали сына, то вовсе не были рады, что я появилась первой; впрочем, отец выказал больше удовольствия, нежели его окружавшие. Мать чуть не умерла, производя меня на свет, и еще долго спустя находилась между жизнью и смертью. В кормилицы дали мне жену прусского солдата, которой было лишь девятнадцать лет: это была женщина живая и красивая. Меня поручили одной даме, вдове некоего фон Гогендорфа, занимавшей место компаньонки при моей матери. Мне рассказывали, что эта дама так неумело взялась за меня, что сделала меня очень упрямой. Она так же дурно обошлась и с матерью, ибо та вскоре ей отказала, так как эта женщина была груба и любила возвышать голос. Она повела дело так хорошо, что я никогда не слушалась, пока мне не прикажут по крайней мере раза три, и притом очень внушительным голосом.
С двухлетнего возраста меня вручили француженке-эмигрантке по имени Магдалина Кардель, которая была вкрадчивого и льстивого характера и считалась немного фальшивой; она очень заботилась о том, чтобы я, да и она также, являлась перед отцом и матерью такою, какой могла бы им нравиться. Следствием этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста.
Отец, которого я видела не так часто, считал меня ангелом. Мать не очень-то беспокоилась обо мне: через полтора года после меня у нее родился сын, которого она страстно любила; что касается меня, то я была только терпима, и часто меня награждали колотушками в сердцах и с раздражением, но не всегда справедливо; я это чувствовала, однако вполне разобраться в своих ощущениях не могла.
Когда мне было около четырех лет, Магдалина Кардель вышла замуж за адвоката по имени Кол ар, и меня поручили ее младшей сестре, Елизавете (Бабет) Кардель, смею сказать, образцу добродетели и благоразумия, – она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце; она была терпелива, кротка, весела, справедлива, постоянна и на самом деле такова, что было бы желательно, чтобы при всех детях была подобная.
На свадьбе Колар я опьянела за столом, после чего вовсе не хотела ложиться спать без нее и так кричала, что должны были меня унести и уложить между отцом и матерью.
Бабет Кардель вначале чрезвычайно мне не нравилась: она меня не ласкала и не льстила мне, как ее сестра, последняя же тем, что давала и обещала мне сахару да варенья, добилась того, что испортила мне зубы и приучила меня к довольно беглому чтению, хоть я и не знала складов. Бабет Кардель, не столь любившая показной блеск, как ее сестра, снова засадила меня за азбуку и до тех пор заставляла складывать, пока не решила, что я могу обходиться без этого.
Мне дали учителя чистописания и учителя танцев. Учитель чистописания заставлял меня обводить чернилами буквы, которые он писал карандашом; учитель танцев заставлял ходить и делать кое-какие па на столе; но это были, кажется, даром выброшенные деньги, потому что я научилась писать и танцевать в действительности лишь гораздо позже; вот что такое это раннее образование, которое обыкновенно ни к чему не ведет.
Когда мне было три года, отец с матерью свезли меня к бабушке в Гамбург. Одно только обстоятельство я припоминаю из этой поездки – то, что меня взяли в немецкую оперу и я увидела там актрису, одетую в голубой бархат, шитый золотом; она держала белый платок в руках; увидев, что она вытирает им глаза, я начала так искренно плакать и кричать, что пришлось отослать меня домой. Эта сцена так сильно запечатлелась у меня в душе, что я помню ее и сейчас.
По возвращении в Штеттин я чуть не убилась до смерти: я играла в комнате матери, где стоял шкаф, полный игрушек и кукол; ключ от него был у меня. Однажды я до того разыгралась, что шкаф упал на меня; мать подумала, что меня задавило, вскочила и бросилась ко мне; но, к счастью, дверцы шкафа были отперты, и он лишь так удачно накрыл меня, что я осталась под ним цела и невредима, отделавшись одним испугом. В другой раз я чуть не проткнула себе глаз ножницами: острие попало в веко.
Помню, я проставила 1733 год в письме, которое написала матери, находившейся тогда в отъезде. В том же самом году я видела в Брауншвейге короля Фридриха Вильгельма: меня ввели в комнату, где он находился; сделав ему реверанс, я, говорят, пошла прямо к матери, которая была рядом со вдовствующей герцогиней Брауншвейгской, ее теткой, и спросила: «Почему у короля такой короткий костюм? Он ведь достаточно богат, чтоб иметь подлиннее?» Король захотел узнать, о чем я спрашивала; пришлось ему сказать; говорят, он посмеялся, но это ему не понравилось.
В 1734 году мать разрешилась вторым сыном. Старший, который стал хромым, дожил только до тринадцатилетнего возраста и умер от сыпного тифа. После его смерти узнали причину несчастного случая, который мешал ему ходить без костыля и из-за которого непрестанно давали ему бесполезные лекарства и обращались к самым известным врачам Германии; врачи советовали посылать его на воды в Аахен, Теплиц и Карлсбад; он возвращался оттуда всё таким же хромым, каким туда ездил, и нога всё уменьшалась по мере того, как он подрастал. Когда он умер, его вскрыли и нашли, что у него был вывих бедра, полученный, вероятно, в самом раннем детстве. Припоминали, что, когда ему было полтора года, у него сделался такой сильный жар, что думали, у него горячка, и после этого он перестал ходить. Отсюда предположили, что его уронили женщины, ухаживавшие за ним, и что тогда он вывихнул бедро, но этого ни они и никто другой не заметили вовремя, чтобы принять нужные меры.
В 1736 году мать родила вторую дочь, которая умерла несколько недель спустя.
До семилетнего возраста я почти не хворала. Я была только подвержена тому, что голова и руки покрывались известного рода коростой, которая так часто появляется у детей: в России ее зовут золотухой; стараться лечить ее очень опасно, оттого мне и не давали никакого лекарства. Когда она появлялась на голове, мне стригли волосы, пудрили голову и заставляли носить чепчик. Когда она появлялась на руках, мне надевали перчатки, которых я совсем не снимала до тех пор, пока не отпадали корки.
Мне было семь лет, когда у меня сделался очень сильный кашель. Обыкновенно каждый вечер и каждое утро ставили нас на колени читать утреннюю и вечернюю молитву. Как-то вечером, стоя на коленях для молитвы, я начала с такой силой кашлять, что от натуги повалилась наземь, на левый бок, и начала чувствовать такие колики, что они почти захватили дыханье. Ко мне бросились и отнесли меня на кровать, где я оставалась почти в течение трех недель, лежа постоянно на левом боку, с кашлем, коликами и очень сильным жаром. Не было кругом ни одного искусного врача, мне давали разные лекарства, но Бог весть, каковы они были. Наконец, после многих страданий, я была в состоянии подняться, и когда стали меня одевать, увидели, что я скорчилась за это время наподобие буквы Z: правое плечо стало выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина.
Женщины, которые меня окружали, а также те, что состояли при матери и служили первым своими советами, решили предупредить отца с матерью.
Первый шаг, который сделали в данном случае, заключался в том, чтобы наложить на всех глубокое молчание о моем состоянии. Отец и мать очень беспокоились, видя, что один ребенок у них хромой, а другой – кривобокий. Посоветовавшись в глубокой тайне кое с кем из людей опытных, решили искать сведущего человека, который сумел бы исправить искривление. Искали тщетно; единственным человеком, сведущим в этом деле, было противно воспользоваться, потому что это был местный палач. Долго колебались, наконец решили позвать его в превеликой тайне, и только Бабет Кард ель да одна горничная были в нее посвящены.
Человек этот, осмотрев меня, приказал, чтобы каждое утро в шесть часов девушка натощак приходила натирать мне в постели плечо своей слюной, а потом позвоночник. Затем он сам сделал род корсета, который я не снимала ни днем ни ночью, разве только чтобы сменить белье; он приходил через день рано утром снова меня осматривать. Сверх того, он заставлял меня носить широкую черную ленту, которая шла вокруг шеи, охватывала с правого плеча правую руку и была закреплена на спине. Наконец, я не знаю, эти ли средства подействовали, или я не имела предрасположения стать кривобокой, только через полтора года такого ухода я начала подавать надежду, что выпрямлюсь. Я перестала носить этот столь беспокойный корсет лишь к десяти или одиннадцати годам.
Когда мне было семь лет, у меня отняли всех кукол и все другие игрушки и сказали, что я большая девочка, которой не пристало более их иметь. Я никогда не любила кукол, но тем не менее в них играла; мои руки, платок и всё, что я находила, служило мне игрушкой; оттого я продолжала свое по-старому; вероятно, это лишение игрушек было только для вида, ибо мне не мешали.
С ранних лет за мной признали хорошую память, а потому и мучили меня постоянно заучиванием наизусть; называли это развитием памяти; я думаю, со своей стороны, что это было ее ослаблением. То были стихи из Библии, затем – нарочно сочиненные вещицы, а то – басни Лафонтена, которые надо было учить наизусть или бойко твердить, и, когда я что-нибудь забывала, меня бранили; между тем, кажется, нет человеческой возможности запомнить всё, что я принуждена была выучить наизусть; думаю, не стоило и трудиться над этим. Я берегу еще сейчас немецкую Библию, где подчеркнуты красными чернилами все стихи, которые я знала наизусть.
Мне дали наставника, который обучал меня Закону Божию, истории и географии; французский и немецкий языки я усвоила по навыку. Я спросила однажды у этого священника, ибо им-то и был мой наставник: какая из христианских церквей древнейшая? Он мне сказал, что греческая и что она также больше всех приближалась к вере апостолов, он был в этом убежден. С этой минуты я возымела большое уважение к православной церкви и всегда очень интересовалась ее учением и обрядами; ныне я глава этой церкви.
Помню, у меня было несколько споров с моим наставником; из-за них я чуть не попробовала плети. Первый спор возник оттого, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечную муку, так как не знали Откровения. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника – он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость. Священник прибег к способу убеждения, которого придерживался святитель Николай: пожаловался Бабет Кардель и хотел, чтобы меня убедила розга. Бабет Кардель не имела разрешения на такие доводы; она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению. Бабет Кардель была реформатка, а пастор – очень убежденный лютеранин.
Второй спор вращался около вопроса о том, что предшествовало мирозданию. Он мне говорил – хаос, а я хотела знать, что такое хаос. Никогда я не была довольна тем, что он мне говорил. Мы поссорились, и Бабет Кардель была снова призвана на помощь.
Третья схватка, которую мы имели с пастором, была относительно обрезания: я хотела знать точно, что это такое, а он не хотел объяснять; Бабет на этот раз заставила меня замолчать. Я уступала только ей: она смеялась исподтишка и уговаривала меня с величайшей кротостью, которой я не могла сопротивляться. Признаюсь, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор я отвечала отпором.
Сей духовный отец чуть не поверг меня в меланхолию: столько наговорил он мне о Страшном суде и о том, как трудно спастись. Целую осень каждый вечер, на закате дня, ходила я плакать к окошку. В первые дни никто не заметил моих слез; наконец Бабет Кардель их заметила и захотела узнать причину. Мне было трудно ей в этом признаться, но я ей открылась, и у нее хватило здравого смысла, чтобы запретить священнику стращать меня впредь такими ужасами.
Меня учили всяким женским рукоделиям, но я о них заботилась столь же мало, как и о чтении. Я охотно писала бы и рисовала; меня почти не научили рисованию – за неимением учителя. У Бабет было своеобразное средство усаживать меня за работу и делать со мной всё, что ей захочется: она любила читать; по окончании моих уроков, если была мной довольна, она читала вслух; если нет, читала про себя. Для меня было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему чтению.
Бабет учила меня пению; у нее был прекрасный голос, она любила петь и знала музыку. После семи лет напрасных трудов она объявила, что у меня нет ни голоса, ни способности к музыке; она не ошиблась ни в том ни в другом. Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь лестно отозвался о моем голосе, кроме одного инструментального мастера по фамилии Белоградский, который меня уверял и внушал другим, что у меня отличное контральто; это заставляло нас часто смеяться. Музыка в конце концов для моих ушей – редко что-нибудь другое, чем простой шум. Нашелся как-то итальянский музыкант, который брался разучить со мной одну арию в два часа; я попробовала, но ему это не удалось. И вот что странно: я знаю ноты и, если среди игры стану за спиной музыканта, скажу, какое место он играет.
Моя мать, Иоганна Елизавета Голштейн-Готторпская, была выдана замуж в 1727 году, пятнадцати лет, за моего отца, Христиана Августа Ангальт-Цербстского, которому было тогда сорок два года. Со стороны казалось, что они отлично уживаются друг с другом, хотя и была большая разница в годах между ними, да и склонности их были довольно различны. Отец, например, был очень бережлив; мать – очень расточительна и щедра. Мать любила исключительно удовольствия и большой свет, отец любил уединение. Одна была весела и шутлива; другой – серьезен и очень строгих нравов. Но в чем они совершенно были сходны между собою, так это в том, что оба пользовались большой популярностью, были непоколебимо религиозны и любили справедливость, особенно отец. Я никогда не знала человека более глубоко честного и по убеждению, и на деле. Мать считалась умнее отца, и в ее уме находили больше блеска, но отец был человек прямого и здравого смысла, с которым он соединял много знаний; он любил читать, мать читала тоже, но всё, что она знала, было очень поверхностно; ее ум и красота доставили ей большую известность; кроме того, она имела более великосветские манеры, чем отец.
Мать была воспитана герцогиней Елизаветой Софией Марией Брауншвейг-Люнебургской, ее крестной матерью и родственницей. Та и выдала ее замуж и дала приданое. Мать проводила ежегодно несколько месяцев у одной герцогини, которая жила в Брауншвейге, в Грауенгофе; отсюда эта дама вообще известна была в Германии под именем герцогини Грауенгофской. Она прожила больше восьмидесяти лет и умерла около 1767 или 1768 года.
Мать, с тех пор как мне пошел восьмой год, обыкновенно брала меня повсюду с собой, особенно к этой даме. Там-то я увиделась и познакомилась со вдовствующей принцессой Прусской, сестрой герцога Карла, с этим герцогом и его супругой, сестрой великого короля Фридриха Прусского. Другие сестры герцога, которых я знала, были, кроме Елизаветы Христины, королевы Прусской, уже замужней, принцесса Антуанетта, впоследствии замужем за герцогом Саксен-Кобургским, принцесса Шарлотта, умершая аббатисой Гандерсхайма, принцесса Терезия, бывшая аббатисой в том же монастыре после сестры, и принцесса Юлианна Мария, впоследствии королева Датская. Принцы, их братья: принц Людвиг, который был опекуном штатгальтера Голландии; принц Фердинанд, который составил себе столь громкое имя, командуя Союзной армией; принц Альберт и принц Франц, погибшие оба на войне. Я, так сказать, выросла с младшими из них, ибо старших я знала, когда те уже были взрослыми, а я сама еще ребенком.
Там же, в Брауншвейге, я познакомилась со знаменитой бабушкой герцога Карла, которая насчитывала среди своих внуков столько государей. Она была родом из Эттингенского дома; это была еще очень красивая женщина, уже за семьдесят лет. Три ее дочери были замужем: одна за императором Карлом VI, другая за сыном Петра Великого и третья за герцогом Альбертом Брауншвейгским; следовательно, Мария Терезия, императрица Римская, Петр II, император Российский, Елизавета Христина, королева Прусская, Юлианна Мария, королева Датская, – все были ее внучками и внуками. Ее правнуки и правнучки будут населять Европу государями: принцессы Австрийские – с одной стороны, принцы – с другой, и принц Прусский – с третьей.
Познакомилась я там еще со всей линией Брауншвейг-Бевернской, к которой принадлежала принцесса Марианна, мой близкий друг, обещавшая быть очень красивой. Моя мать очень ее любила и предрекала ей корону. Однако та умерла незамужней. Как-то приехал в Брауншвейг с епископом принцем Корвенским монах из дома Менгден, который брался предсказывать будущее по лицам. Он услышал похвалы, расточаемые моей матерью этой принцессе, и ее предсказания; он сказал ей, что в чертах этой принцессы не видит ни одной короны, но по крайней мере три короны видит на моем челе. События оправдали это предсказание.
Брауншвейгский двор был тогда истинно королевским и по количеству красивых домов, которые занимал этот двор, и по убранству этих домов, и по порядку, который царил при дворе, и по числу всякого рода людей, которых он содержал, и по толпе иностранцев, которые постоянно туда съезжались, и по величию и великолепию, которыми был проникнут весь образ жизни. Балы, опера, концерты, охоты, прогулки, пиршества следовали изо дня в день. Вот что я видела каждый год по крайней мере в течение трех или четырех месяцев в Брауншвейге с восьми до пятнадцати лет. Прусский двор далеко не имел ни такого порядка, ни того внешнего величия, как двор герцога Брауншвейгского.
Мать, отправляясь из Штеттина в Брауншвейг, или на обратном пути, проезжала обыкновенно через Цербст или Берлин и там останавливалась, особенно когда отец находился в одном из этих мест. Помню, что я на восьмом году жизни впервые была с матерью у покойной королевы, матери Фридриха Великого; король, ее муж, был еще жив. Ее четверо детей, принц Генрих, одиннадцати лет, принц Фердинанд, семи, принцесса Ульрика, впоследствии королева Шведская, и принцесса Амалия, обе по годам уже невесты, были с нею; король отсутствовал. При этой встрече между играми завязалась моя дружба с принцем Генрихом Прусским; во всяком случае, я затрудняюсь указать более раннюю дату; часто мы признавали, что первая наша встреча в детстве была началом этой дружбы.
Мать предпочла бы жить в Берлине, чем в каком-либо ином месте. Отец не разделял ее мнения, к тому же дела требовали его то домой в Цербст, то в Штеттин, где он был комендантом, а потом губернатором. В доме отца был некто по имени Больхаген, сначала товарищ губернатора при отце, впоследствии ставший его советником и наконец сделавшийся близким другом. Отец почти ничего не делал, не посоветовавшись по крайней мере с этим лицом. Мать ценила его не столь высоко, и так как это был человек очень бережливый, то не всегда соглашалась с ним и находила, что этот старый слуга оказывал ей слишком много сопротивления; иногда в порывах запальчивости она обвиняла его в том, что он ее не любит.
Не знаю, как это было на самом деле; я была слишком молода, чтобы судить об этом; домашние говорили, что с одной стороны были капризы, а с другой – усердие заходило иногда слишком далеко. Что я несомненно знаю, так именно то, что этот Больхаген, который был очень стар и немощен, жил в нижнем этаже и оттуда каждый вечер в пять часов поднимался на третий этаж, где мы жили. Он проводил в моей комнате и в комнате моих братьев по крайней мере полтора часа, рассказывая, что он видел в своих странствиях, и пересыпая всё назиданиями. Он хорошо говорил и был умен. Он горячо принимал к сердцу наше воспитание, и в том, что я когда-либо слышала от него, находила всё только благородное. Оттого и говорили, что он любил детей моего отца как своих.
Этот Больхаген и пробудил во мне первое движение честолюбия, какое я в себе почувствовала. Он читал в 1736 году газету в моей комнате; в ней сообщалось о свадьбе принцессы Августы Саксен-Готской, моей троюродной сестры, с принцем Уэльским, сыном короля Георга II Английского. Больхаген обратился к Кард ель: «Ну, правду сказать, эта принцесса была воспитана гораздо хуже, чем наша, да она совсем и некрасива. Однако вот суждено ей стать королевой Англии; кто знает, что станется с нашей». По этому поводу он стал проповедовать мне благоразумие и все христианские и нравственные добродетели, дабы сделать меня достойной носить корону, если она когда-нибудь выпадет мне на долю. Мысль об этой короне начала тогда бродить у меня в голове.
Не знаю наверное, была ли я действительно некрасива в детстве; но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что поэтому мне следует позаботиться о приобретении ума и достоинств, так что я была убеждена до четырнадцати или пятнадцати лет, будто я совсем дурнушка, и я действительно гораздо больше старалась о приобретении достоинств, нежели думала о своей наружности. Правда, я видела чрезвычайно дурной портрет, написанный с меня в десятилетнем возрасте; если он в самом деле был похож, то меня не обманывали.
Мать часто ездила из Цербста в Кведлинбург. Аббатисой этого аббатства была ее тетка, а старшая сестра матери была настоятельницей. Обе эти принцессы Голштинские, которым суждено было жить в безбрачии и занимать один и тот же дом, постоянно ссорились или не виделись в течение нескольких лет. Мать часто старалась мирить их, и иногда это ей удавалось.
Принцесса-настоятельница Гедвига София Августа очень любила собак, особенно мопсов. В детстве я была поражена, когда увидела у нее однажды и нашла в ее комнате, имевшей самое большее четыре квадратных сажени, шестнадцать мопсов; многие из этих собак имели щенят, и все они оставались в этой комнате, где обыкновенно находилась и сама тетка. Они там спали, ели и пачкали; особая девушка была приставлена их чистить и целый день из-за этого суетилась. В этой же самой комнате, кроме того, было изрядное количество попугаев. Можно себе представить, какое благоуханье там царило. Когда принцесса выезжала, в ее карете находились по крайней мере один попугай и полдюжины собак; последние сопровождали ее даже в церковь. Я никогда не видела, чтобы так любили животных, как она их любила. Она была совершенно поглощена ими в течение дня и двигалась только для них, а потому и располнела, и это безобразило ее тем более, что она была мала ростом. Принцесса эта не была бы лишена достоинств, если б пожелала об этом немного позаботиться. Она писала по-немецки и по-французски самым красивым почерком, какой я когда-либо видела у женщины.
У меня была тетка, сестра отца, совершенная противоположность той, о которой я только что говорила. Ей было за пятьдесят, она была очень высока и так худа, что у меня талия в одиннадцать лет была толще, чем у нее, а потому она очень гордилась своей тонкой талией. Она вставала в шесть часов утра и заботилась о том, чтобы зашнуроваться тотчас, как только встанет, и не снимала корсета до той минуты, пока не ложилась спать. Она говорила, что была очень красивой, но несчастье, которое с ней случилось, загубило ее красоту: когда ей было десять лет, на ней загорелась накидка, которую она надевала, чтобы пудриться, и огонь охватил нижнюю часть лица, так что подбородок и низ щек приняли и сохранили вид изрубцованной кожи, что на самом деле было отвратительно. Она была добра, кротка, но умела упорно хотеть того, чего хотела. Она претендовала на законный брак со всеми принцами Германии, какие только попадались ей на глаза, и недоставало только их согласия, чтоб она сделала хорошую партию.
Принцесса эта отлично вышивала, очень любила птиц, из жалости подбирала особенно тех, с которыми случалось какое-нибудь несчастье. Я видела в ее комнате дрозда с одной ногой, жаворонка с вывихнутым крылом, кривоногого щегленка, курицу, которой петух прошиб голову, петуха, которому кошка общипала хвост, соловья, которого наполовину разбил паралич, попугая, который обезножил и потому лежал на брюхе, и много всякого рода других птиц, которые гуляли и свободно летали по ее комнате.







