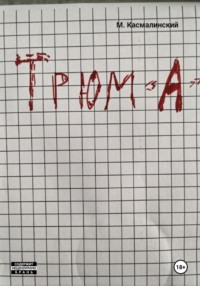Полная версия
Гапландия
– Отец тебе говорит не про деньги, – подключается Норма. – Выделяться не надо. Правила для всех и обязательны. Все время, до новых правил. Ты подставляешь отца в первую очередь.
– Шлем, балаклава, мопед, – улыбается Борька. – Никто не заметит небритость.
– А где мопед? – интересуюсь без интереса. – Я вчера его не видел на обычном месте.
– Вы, папаша, вчера бы и фуру не узрели, – смеется Борис. И этот туда же, подкалывает. – Напротив стоит мопед.
Я не сразу понял, а когда сообразил:
– У третьего корпуса?!
– Ну да.
– Подло.
– Ты совсем сдвинулся! – возмущается Норма, разодрав слипшееся глаза. – На себя плевать, о родителях подумал?! У третьего корпуса! Что соседи скажут?!
Соседи скажут, что угодно, им не запретишь. Мы не властны над мыслями другого человека, как сказал Корифей Сизов. Но если публика узнает, что Сизов Корифей имел сына, который плохой клауфил, который нарушил традиции – отпишутся, и суперблогер слетит с пьедестала. Если я хочу повысить категорию в Сети…
– Иди, отгоняй щас же!!! – ору я Бориске. Он вжимает голову в плечи и убегает из кухни.
Послышалось кряканье замка входной двери, которое тут же заглушил гул микроволновки.
– Он по инфантильности чудит. Пора уже взрослеть, давай отправим его на гвардейские сборы. Видел объявление недавно… – я не договорил.
В кухне возникли два молодых консьержа, одетых в патрульную форму. Сзади маячил Борис, он таращил глаза и виновато дергал плечами.
– Служба опеки, консьерж Пригорин, – представился один. Второй выглядел глуповато, он жевал резинку, поэтому представился невнятно: «капрал такой-то».
– Шэлтер Александр, это вы? – спросил Пригорин и потянулся идентификатором к моей руке.
– В чем дело, что случилось? – сухими губами прошелестел я, подставляя запястье.
Идентификатор блямкнул, распознав мою скорбную личность. Паника: вчера нарушил… нет, я все помню. Постыдное подозрение: Норма настучала за крамолу. Или? Что я такого выкладывал вчера-позавчера? Вроде бы все в рамках. Голова закружилась, крошки на ламинате запрыгали.
– Проедем с нами.
Вибрирует на столе микроволновая печь, за дверкой ее шкворчит майонез.
– За что его? – бесцветным голосом обронила супруга.
– А я вас узнал, – объявил жующий капрал. – Вы Норма Шэлтер. «Фитнес в домашних тапочках, идеальная фигура». Мы смотрим ваш канал. Можете моей сестренке привет передать?
Пока супруга слащаво вещала в смартфон веселого капрала, я искал модель поведения. Что бы делали Корифеи Сети? Хилон непременно сослался бы на законы, Бибисевс – звонок высокому начальству. Африканка Ита – воззвание к подписчикам. Я не Корифей, но и не последний блогер, вести себя нужно, как бы то ни было, достойно, послушно.
Консьерж Пригорин предложил выдать телефон и тяжелым взбивающим жестом застегнул на руках мне наручники.
– Слушай, там труба в кабинете. Принеси, – попросил я озадаченного от происходящего Бориса. – Или в гостиной лежит.
Как ни стараюсь, а в голосе нет той убежденной мужественности, которая всегда восхищает подписчиков. Не впечатляю я зрителей – дизлайк, игнор, отправка в бан. Нужно собраться, включить силу воли, в любой момент за нами наблюдают.
– Хотелось бы знать подоплеку мероприятия.
Зачем я сказал «подоплека»? Анахронизм и базарщина.
– Основания задержания, – уточнил я.
– В отделе расскажут, – протянул капрал.
– Шэлтер! Вы все и сами знаете! – добавил Пригорин.
В том и беда, что не знаю. В прошлом году забрали нижнего соседа с тридцать девятого этажа, тоже кричал: «я ничего не сделал!». А следствие установило – чедрский шпион. По мне вопрос разъяснится, это бесспорно, но реноме, реноме… выпаду из категории. Когда еще просмотры наберут приличное число? Корифей Хилон мог бы сделать из задержания шикарное шоу. У меня, к сожалению, нет такого таланта.
Вернулся бледный Борька, сказал, что телефона нет нигде. Потерять трубу по пьяни – еще такого штрафа не хватало. С другой стороны, пусть это будет тяжелейшим преступлением, которое я совершил. Не могут же арестовать за исторические байки о древних англосаксах. Или могут?
– Новые уставы приняты? – спросил я тихо у капрала. И с максимальной доверительностью добавил. – Я вчера загулял немного, одноклассника встретил. Изменения в законы не читал еще.
– Маячок отследи, – приказал капралу властный Пригорин. Он упивался ситуацией, видно, что в своей стихии: аресты, задержания.
– У вас может официальная бумага есть? – неуверенно спросил Борис у патрульных. Пригорин небрежно отмахнулся: «У нас все есть». А капрал, глядя на экран своего смартфона, доложил:
– Маячок не маячит. Выключена трубка евошняя.
– Я, наверное, потерял.
– Разберемся, – буркнул Пригорин. – На выход.
Челюсти завибрировали с отдачей в оба виска. Заломило затылок, атака паники через заслоны.
– Я даже зубы не успел почистить, – запинаясь, сказал я.
– Административку заплатишь, – сказал Пригорин и тут же поправился. – Заплатите.
– Соточка за телефон, полтинничек за гигиену, – проговорил капрал, подхватив меня под руку. – Бюджету прибыль, красота! Уже не зря злодея приняли.
Мой похмельный психоз был препровожден в прихожую, где с разрешения консьержей я начал обуваться. Из своей комнаты выскочил мелкий. Смешная мятая пижама, красные горошины на легкой белой ткани. Подбежал, обхватил меня за колено и заплакал во весь голос:
– Папа! Не уходи! Папа! Папочка!
– Норма, забери его! – крикнул я.
Сынок понял, что происходит, он знает про аресты, наручники, патрульных – и это не хорошо. Зачем криминальные ролики? Детям – зачем?
– Папа! Останься! – кричал Давид. Борис оторвал его от моей ноги, но маленький стал колотить ладошками по куртке консьержа. – Развяжи папу! Отпусти! Отпустите!
Капрал накинул мне на плечи пальто и выставил меня на площадку. Пригорин вылез следом и захлопнул дверь.
– Вот зверек! – со злобным восхищением проговорил он. – Чуть палец не откусил.
Из-за двери слышны были стоны Давида: «Папа, папочка, куда?..». Капрал шмыгнул носом и потер левый глаз тыльной стороной ладони. Этой же рукой толкнул меня в спину.
Лифт был заблокирован на нашем этаже. Меня ткнули в устав Гапландии. Кабина поехала вниз.
В вестибюле старый консьерж сказал то ли мне, то ли коллегам:
– Попался голубчик.
Мне захотелось сказать, что я не скрывался и готов всегда явится по первому вызову. Это подтвердила собака во дворе, провожая нас сочувственным взглядом. Дорогой ты мой сукапес! Только вчера познакомились, кто мог бы подумать? Собака рыкнула – все разъяснится, мы еще посидим на ступеньках, повоем, попьем вискаря.
Сегодня приморозило слегка, на крышах и перилах вспенился иней. Запихали меня в полицейскую теслу, сжали телами с обеих сторон. Водитель глянул в зеркало заднего вида и, кажется, мне подмигнул. Не дружески, а как бы плотоядно. Так повар говорит куску говядины: сейчас- то мы тебя разделаем, зажарим, в сметанном соусе утопим.
Возникло такое чувство, что это происходит не со мной. Будто кто-то управляет сюжетом, сочиняет и в любой момент может провести курсором, вернуть персонажа, то есть меня, на час, на день и год назад. Как сказано в старой книге, и сказано странно: где-то у моста Чинвад Боги занимаются вселенскими делами. Но у одного из них все валится, негодно получается…. Тогда этот мыслящий наперед Бог и решил: я сейчас сочиню. И начал творить. Он отделил твердь от воды, воспламенил светила, вулканы. Перемешал моря, океаны. Слепил потешную живность. Пишет!.. Придумал героев, характеры их, населил им созданный мир. Радетель! Боги живут вечной заботой. Там Таргитай враждует с Осирисом, Вишну дружит с Иштар, а этот все пишет – я де творец. Другого он не умеет. Да и не хочет. У моста Чинвад Боги занимаются вселенскими делами.
Я бы сейчас помолился, но это надо уметь.
– Маячок заработал, – сказал капрал. – Включился телефон злодея.
Злодей сегодня, стало быть, я. Понял уже.
– А где? – поинтересовался Пригорин.
– Так в ихней же Гапландии. Вернемся?
Пожалуйста! Вернемся! Отъехали всего ничего.
– Не в «ихнем», а в «их»! Сколько раз говорено! – ругнулся Пригорин. – Не будем возвращаться. Что мы конвойные? Своей работы полно.
Телефон я выронил, когда бухал с собакой. Сидели мы у парковки, за чьей-то теслой, помню бордюрина была жесткой. Там и посеял. Придется штраф… что за мысли, мать твою! Меня под арест взяли с утра! Какой штраф? Штраф – пустяки, оплатим, что я на штраф не заработаю?
Патрульная машина повернула у Парка Памяти. Здесь я гулял с ребятишками, когда они были младше, а я энергичней. Бюсты, памятники, обелиски в парке развалены были вдоль клумб и деревьев. На елках висели шишки. Иногда в ветвях можно заметить рыжую белочку. «Куда ни плюнь, этот Павлик Матросов», – совсем по-взрослому ворчит Борис, ему уже тринадцать. А Дава читает на стеле медленно по слогам: «строгая жизнь ради долга, существенная, всесторонняя верность человейнику и смиренная, молчаливая преданность государству». Что такое государство, спрашивает мелкий. А на высокой сосне в курчавой кроне трудяга дятел долбит по коре, звук разлетается по широким аллеям, коротким тропинкам, парк на минутку становится жив. Суровые брови мертвых героев выбиты в мраморе грубым зубилом, хмурятся кумиры – почтительная неподвижность. Помним. Скорбим. Голимая некрофилия, смеется Борис. Улицы имени трупов, скульптуры мертвецов, портреты предков… (душеспасительный подзатыльник имени меня) … надо, так надо, вздыхает подросток. Вырастешь, сам все поймешь, наставляю я с отеческой всёиспытанностью. Давно это было, словно вчера.
А сегодня – приехали.
Районный отдел службы опеки раззявил жерло и выплюнул двух подозрительных типов, сразу рванувших в разные стороны. Меня же закинули внутрь, где за пыльным стеклом матерый дежурный орал в телефон с приказной интонацией. На меня посмотрел он строго и пренебрежительно.
И верно, спальные ноги из-под пальто неубедительный признак солидности, скорее критерий ущербности. Хотя пальто от известного бренда, но вряд ли консьержи оценят престижность. Их элитарность – растительность на лице, это покруче, чем модные шмотки. Мне бы пошла борода-эспаньолка, да только нельзя.
– Это какое? – дежурный переключил внимание на меня.
– У тебя записано, – сказал Пригорин.
– Запри пока.
– Требую, чтобы мне… – твердо начал я.
– Ага, – согласился дежурный. А капрал ловко подцепил меня под руку и оттащил по коридору к тяжеленой на вид кованой двери, где стал снимать с моих рук браслеты.
– Канолевый обезьянник, – сказал капрал. – Исчо ремонт не закончили.
Мимо шел короткостриженый парень в пластиковых тапках, который тоже заинтересовался моей персоной:
– Это что за залупа?
– Ваш клиент, – ответил капрал. – Мы тока крепанули и доставили. Заходи, Шэлтер.
Меня поместили в тесную темь заблеванной камеры. Сразу захотелось дышать и пить. Долгие мгновения, время в коме, сухой язык и полная обреченность. Это лучше, чем паника. Как-то так вот. Оползень слез по убийственной линзе. Беснование серой судьбы. Сплетается хлам в голове. Покорись, говорят, пусть будет, что будет. А будет-то что?
Зажегся свет похожий на ветошь, нашлась скамеечка вдоль стены. Зашел дежурный, спросил про вещи. Ремень, шнурки, побрякушки на шее? А я в футболке на голое тело. Какие шнурки? Их и не носят давно, лапти канули в Лету.
Ты не мудри, отдыхай, Квазиморда. Дверь громыхнула, пространство сомкнулось. Кирпичный склеп, тишина и удушье. Почти императорское погребение.
Стена студит спину, доска режет локоть. Кирпич, второй, четвертый. Третий я забыл. Это плохой кирпич, неправильный, пусть валит в гнилую глину. Можно посчитать вдоль пола и вверх, потом умножить, как таблицу Пифагора. Нет, есть аналогия красивее: кирпичная стена – молекулярная решетка. Молекулы построены из атомов. Есть и еще меньше частицы. Протоны, по-моему. Электроны, нейроны. Все это движется, путается, лепится, разделяется. Всегда. Вечно. На атомном уровне смерть неприметна. Иллюзорна и бесполезна. Сознание исчезает как целое, но его терабайты продолжают движение, тело исчезает, но атомы, протоны, вся херня – наверное, вечная штука. Тогда чего мне бояться?
***
Некрофилия голимая. Так подумал я через три часа перед скульптурой Павлика Матросова на аллее городского Парка Памяти. Со стороны проспекта шел высокий человек с многообещающим дымком над головой. Мне повезло, стрельнул сигаретку (благо, пальто скрывает пижаму), закурил, выбывая из госпрограммы. Без приза обойдусь. Сегодня – фартовый день. Счастье свободы – наивысшее наслаждение! Пересолите, переперчите пропеченную в уголь котлету и ешьте. Потом вы оцените воду, ее невообразимый студеный вкус, ее жизнетворящую музыку, ее необходимость и незаменимость. Свобода-вода. Свобода – дыхание. Нет, теперь я понимаю мятежников, враги наши знают, за что воюют.
О тихая моя свобода и неживого небосвода ты мандельштамовский хрусталь. Были в древности поэты, а зачем? Живопись системнее, всегда хотелось быть подпольным художником. Спрятаться и рисовать, пока на свободе?
Свобода. Ты ее не ценишь, пока не посидишь в тесной камере, пока не собьешь в кровь пальцы о дверь. Пока не смочишь своей кровью иссушенные губы. А жажда убивает, унижает, сводит с ума, и ты готов умолять, признаваться, только глоток воды. И откройте двери, ради Бога!
Вдруг выпускают, ведут на второй этаж в кабинет, где ждут тебя молодые щекастые опера. Первым делом, получаешь локтем в грудину, потом сборником кодексов по голове. Учтивое предложение явки с повинной. А ты вину чувствуешь, осознаешь, но в чем она не понимаешь или не помнишь. У тебя забирают ботинки, но обещают дать взамен вещество кремового цвета. В пакетике прозрачном. Не заманчиво. Отказываешься, конечно, порошок, дескать, стоит больше чем все, что есть у меня. Они скажут, что ничего, ничего, разбавим крахмалом, сахарной пудрой, технология отработана, но к чему эти сложности, эти интриги, надо сознаться. А то, видишь, провод на щиколотку… Тут уже знакомый консьерж-оперативник в тапках говорит, что мочки ушные прижечь продуктивней…
Электроды повисли, как серьги. Это видно в бывалом зеркале, притаившемся за шкафом, из которого змеиным синим языком свесился рукав форменной куртки. Разряд! Мрак. Гарь. Паралич. Боль! Страх. Электроудар. Резина. Запах жженой пластмассы.
«Аппарат непродуктивно сломался», – сказал из тапок консьерж. Он – мой самый лучший друг. Надо ему помочь. Я готов.
Мерцает лезвие перед лицом. «Отрежем веки с глаз? Как заусенцы». Потом провал. Тьма. Пробуждение.
«Средство индивидуальной защиты многопрофильного применения», – сказал дружище. Зачем ты так изъясняешься? Это же противогаз.
Заходит толстяк в форме майора, в руке бутерброд, говорит: «Продолжайте».
Пластично сдавленная голова. Удушливая уверенность в собственной преступности. Десять лет штрафбата – милая прогулка. Сознаюсь!
Одна плитка с потока скоро оторвется. Перед глазами стоит майор, противогаз в руке.
«Это ж, вроде, не он». Я это, я! Майор раздражается: «Ёптыть! Точно, не он! Не ты? Нет? Так какого хуя ты нам полдня мозг ебешь? Пшел вон! Пиздюлей ему дайте на ход ноги».
Потом ты выходишь из отдела на улицу, ребра болят, под ребрами – фарш, отковыляешь подальше, подышишь, подышишь и поймешь, что вот она какая – свобода. Дышишь. Ни гари, ни резины. Как же хорошо – то! Свобода!! А ребята из службы опеки, все-таки, молодцы. Разобрались. Судьба перебесилась. Перебродила неволя в озоновый воздух. Я здесь, я вот он! Неимоверный парящий кайф.
Такие размышления у памятника герою. А я совсем не герой. И сигарета истлела, пепел осыпался. Осыпалась сегодня моя смелость. Предполагаемая. А монумент Матросова гениально величествен – четырехметровый черный монолит с надписью: «аппарат абонента выключен». Парк Памяти, ранняя весна, которая пройдет. И память пройдет, всему свое время. Снег под елкой лежит кусками. Но уже собирается, готовится под землей, скоро взорвется трава. Мрачный памятник, за ним – волглая тропинка, ведущая домой.
Тут меня и застукали. Вижу: идут консьержи. Торопятся, таращатся на меня Пригорин с жующим капралом. Конечно, оторопел. Отступил от постамента, засунул руки в карманы, нос опустил в воротник, словно пытаясь спрятаться.
– Шэлтер? – удивленно говорит Пригорин
– И снова круврагийки вам, – язвит капрал.
Я лепечу, что меня отпустили, все выяснилось, разобрались. И голосок мой далекий такой, заискивающий.
– Произошла ошибка, – говорю уже тверже.
Пригорин набирает номер, делает два шага в сторону. Я молчу, ощупываю языком верхнюю десну – авторитетное занятие, не правда ли?
– Что он вытворил этот Матросов? – спрашивает меня капрал, тыча в обелиск электрошокером.
Недалекие же люди патрулируют улицы! В школе учили, как Павлик Матросов завел диверсантов в лесную чащу. И фильм про это есть.
– Анатольич! А жопу от стула раз оторвать!? – ругается Пригорин в телефон.
Капрал достал знакомые наручники, но оглядел мой подтаявший страх и убрал браслеты обратно в карман.
– Ща, пробьем, – говорит. – Коли все путем, то пойдете по своим делам.
– В парке гуляет… а что думать?! – орет Пригорин. – Что?! Алло!.. а… понял.
Я понимаю, что меня сейчас возьмут под руки и отведут обратно. Уже не так страшно, но странно и неряшливо все происходит.
– Шэлтер! Пройдемте, – командует Пригорин и поясняет напарнику. – Возвращаемся в отдел, неразбериха вышла.
– Пердимонокль, – подтвердил образованный капрал, снова щелкая браслетами.
Скульптура провожала нас дремучим и грозящим взглядом. Сумрачно-горький парк тоже не ликовал. Патрульная тесла с приветливо открытой дверцей стояла на пешеходной дорожке, погрузившись одним колесом в мелкую льдистую лужицу. А со стороны входа в парк шла девочка лет семи в шапке с помпоном и ранцем на спине, она упоенно ела мороженое из вафельного стаканчика. Мороженое даже выглядело звонко, стаканчик даже со стороны – хрустящий, зачем на ходу?! Остановись, и не спеша, смакуя. Зубы заломит – не страшно. Совсем не страшно. Мне в детстве бабушка – словно всю строгость возможных воспитателей демонстрировала – запрещала многое, сладости в том числе. А я, нерадивый ребенок, не ел в школе котлету на завтрак, копил эти самые углеводы. Каждый день в мобильный банк смотрел: сколько там? И дней через восемь личный кабинет озаряется нужною цифрой – ура! – готов экран смартфона целовать. И после школы захожу в магазин. Не представить с каким высокомерием, с каким снобизмом я подносил запястный чип к терминалу на кассе, расплачиваясь за два стаканчика мороженного. Если было дело зимой, то съедал я только один, а второй заворачивал в мешочек и закапывал в сугроб. На следующий день, утром к первому уроку, и мы с Ермесом Олимбаевым по дороге сядем в куржак на сломанной карусели и кусаем по очереди. Зубы ломит – ничего, не страшно.
Вообще ничего не страшно, все лучшее уже было.
В патрульной машине стоял важный запах кожаных кресел. В первый раз я его не заметил. От капрала еле уловимо тянет чесноком вперемешку с ментолом. Консьерж Пригорин в этом плане нейтрален, но он мягкий и удобный, нет твердости в плече. Еще и отстраняется, когда я к нему приваливаюсь.
– В каком преступлении я, собственно, обвиняюсь? – спрашиваю, напустив в голос иронии, как это делает Сыщик из сериала.
Пригорин промолчал. Сыщика в третьем сезоне несправедливо обвинили в убийстве, вел он себя выше всяких похвал, легко и с юмором отметя все улики. А уже в следующей серии был найден настоящий убийца. Все преступники оставляют следы. Как сказано в той самой старой книге, почти всякий преступник в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. Это затмение охватывает человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления; продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него. Что первично болезнь или само преступление? Странная книга ответила на этот вопрос не так однозначно, как всем бы хотелось.
А вы заметили, что иногда в критические моменты мозг как бы отстраняется от реальности и выдает картинки воспоминаний, ребусы размышлений, безумные теории? Видимо, мышление ищет выход, и ищет его, перерабатывая прошлый опыт, все уведенное, услышанное, прочитанное. Но в таком авральном режиме мозг не может выдать системный ответ, подобно тому, как человек иной раз не может найти на компьютере необходимый файл и лихорадочно кликает по всем подряд папкам.
Когда мой естественный интеллект второй раз доставили в отдел, то уже не заперли в камеру, а отвели по длинному коридору под хлопанье стеклянных двустворчатых дверей к кабинету с табличкой «Старший следователь».
Старший следователь оказался седым круглолицым человеком в мешковатом костюме. Он встал из-за стола и встретил конвой гостеприимным взмахом руки.
– Как же ж так, а? – с детской обидой сказал хозяин кабинета.
– Мы в дежурку доставили, – заявил Пригорин. – Все часть по чести. Это они там косячат.
– Во-во, – поддакнул капрал, снимая с меня наручники. – Эта самая… безответственность.
– Сожитель Шэлтер! Как же ж вы не обождали? – спросил меня следователь и, не дожидаясь оправданий объявил. – Старший следователь службы опеки Кассин. Николай Анатольевич, – представился он, поглаживая мягкие белесые усы, показывая будто, что консьержи – каста элитная, имеют право и на небритость, и на отчество.
– Требую, чтобы мне объяснили, за что я задержан! – заявил я, подражая Хилону в топовом ролике.
Кассин улыбнулся, добрые глаза сложились в шкодливый прищур.
– А как же ж?! Всенепременно.
– Мы пошли, Анатольич? – спросил Пригорин.
– Долг, типа, зовет, – добавил капрал.
Следователь отпустил патрульных, учтиво пригласил меня присесть к столу.
Я со скрипом двинул стул, откинулся на нем и огляделся. Кабинет был плохо освещен, несмотря на два окна с раздвинутыми жалюзи. Т-образный стол с бордовой полировкой занимал треть помещения, возле компьютера тульей вниз лежит армейская треугольная фуражка. В углу замер сейф похожий на зомби, на нем графин с мутной водой. На стене висит портрет Президента – чопорный лик, складки у губ, длинные фьорды залысин.
Тоже губы поджать. Не буду сейчас истерить. Больше солидности, многозначительности, как в сериале. Я вам не какой-то там! Мне прочили большую служебную карьеру. Был бы сейчас советником Президента, кто бы посмел задержать? Два раза притом! Есть же законы какие-то!
– Георг Гегель, – сказал Кассин, заметив, что я смотрю на портрет. – Знаменитый философ до нашей эры. Философию права не читали?
– Не читал.
– Я, признаться, тоже. Явку с повинной хотите? – врезал внезапно он.
Я растерялся, но всего на секунду.
– Мне не в чем виниться.
– Ой ли, ой ли, – певуче вздохнул следак.
Он полез рукой в треуголку и достал оттуда очки в дешевой оправе. Поглядел на меня, на монитор, снял их, достал другие. «Так получше, – пробормотал он, поглядел на клавиатуру, достал и примерил третьи очки, – А так еще лучше».
Кассин пододвинул ко мне прямоугольник планшета. Я приложил руку, прошел идентификацию. Следователь снял очки, посмотрел мне в глаза и засмеялся.
– Так совсем хорошо, – сказал он.
Мне против воли стало смешно.
– Итак, начнем, – сказал Кассин и тут же уронил на пол блокнот. – В каких вы отношениях с Павлом Кольцовым? – спросил он из-под стола.
– Ни в каких, – сказал я, удивляясь. – Учились в школе давным-давно.
– И отношений не поддерживали?
– До вчерашнего дня нет.
Начало кое-что проясняться. Эх, Вжик! Вот оно, твое несогласие! Напился – веди себя достойно. Не надо поносить того, кого не надо. По ходу, бармен настучал.
– И должен вам сказать, – объявил я вылезшему Кассину. – Что наша встреча была случайной. Позицию Павла не разделяю.
– Это да, это правильно, – следователь потер нос. – Вы же ж засвидетельствали согласие с аудиозаписью допроса? И предупреждены о последствиях.
– Так это, – я показал жестом, как чип подносил к планшету.
– Замечательно, – Кассин застучал пальцами по клавиатуре. – В каких отношениях вы с Федором Вайсом?
– Не знаком. Нет отношений.
– С Анжеликой Труновой?
– Кто это?
– Понятно, – следователь зевнул. – Вы сказали, что позицию Кольцова не разделяете.
– Верно. Я как клауфил против подобных высказываний. Считаю, протестные настроения играют в пользу наших врагов.
– Каких врагов?
Я на мгновение замешкался.
– Как каких? Северяне, чедры, Америка.
– Англосаксы, да?