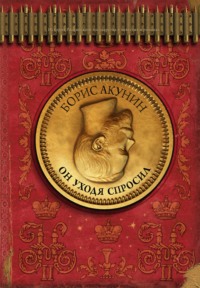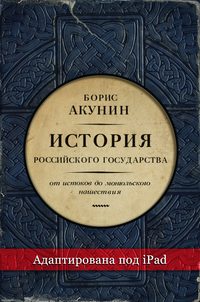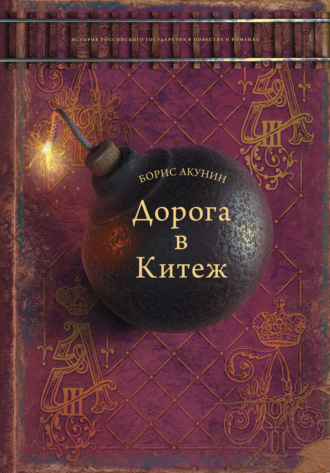
Полная версия
Дорога в Китеж
– Анна Австрийская права, – перебил его Вика. – Тебе надо прикусить язык. Ты за пределы редакции лучше не высовывайся. Твои очки и лохмы действуют на адмиралтейских служак как красная тряпка на быка. А гвардейцы кардинала теперь зашныряют повсюду.
Мишель обиделся, что его рассказ не дослушали.
– Коли так, могу вообще в редакцию не приходить. Только на сдачу матерьялов. Писать и редактировать буду в ресторане… Вот прямо сейчас и уйду, только поднимусь взять шапку и шинель.
Но тут же про обиду позабыл.
– А знаете что? Поедем вечером на Красно-Кабацкую? Выпьем за скорейшее посрамление российского оружия.
– Стыдись, Михаил! – вспыхнул Эжен. – Я за это пить не буду!
– Я тоже, – поморщился Воронин. – А вот за скорейшее избавление от Упыря – охотно.
Мишель почесал двойной подбородок.
– Ладно, пусть каждый выпьет за свое. Но согласитесь – не выпить в такой день нельзя.
С этим никто спорить не стал. Условились встретиться в шесть на Садовой, подле квартиры Питовранова, где всегда стояли тройки, чтоб ехать за город вместе.
– Я тоже скоро пойду, – тихо сказал Вика лейтенанту, придержав его за локоть. – Вызван в известный тебе дом, к полудню. Получил записку. Притом не от Лидии, а от Корнелии. Это странно. Не случилось ли чего у наших «лас-эрманитас?»
– Корнелия Львовна написала и мне. Но почему она позвала тебя? В самом деле странно. – Эжен нахмурился. – Хуже всего, что в нынешних обстоятельствах Коко меня вряд ли отпустит. Если я не появлюсь, извинись за меня и объясни в чем дело.
Вика со значением покачал головой:
– Лучше бы тебе там быть. Что если Корнелия как старшая из сестер желает с нами объясниться… по интересующему нас поводу? Она барышня решительная и Лидии заместо матери. Скажись больным и едем.
– Я не умею лгать, – простонал Воронцов. – Сразу краснею. Черт, черт, черт! Как быть? Пойду к князю, скажу ему правду, он поймет. Ты, пожалуйста, один не уезжай.
Тем временем Мишель Питовранов с удивительной для его корпулентной фигуры легкостью взбежал по крутой лестнице в редакторский закоулок. Там в приемной колдовал над самоваром Силыч, отставной матрос, состоявший при журнале для услуг.
– Михал Гаврилыч, тебя человек дожидается.
– Кто?
– Ларцев какой-то. Одет чуднó. Я бы не пустил, но к тебе какие только не ходют.
– Ларцев? – повторил Питовранов. – Не жду я никакого Ларцева. – И вдруг ахнул: – Неужто тот самый? Не может быть!
Михаил Гаврилович обрадовался, но еще сильней удивился.
Адриан Ларцев был автор статьи о железных дорогах, которую журналист чуть ранее поминал приятелям.
Поразительная по содержанию рукопись пришла в самом начале года. В ней утверждалось, что все беды России происходят из-за громадности дистанций и плохой связи между областями. В прежние времена разрешить эту трудность было невозможно, но технический прогресс дает человечеству новые инструменты. Важнейшим из них являются железные дороги. Надобно выстроить трассу от Балтики до Тихого океана. Тогда у дряблой массы европейско-азиатского государства появится хребет и Россия сможет распрямиться, подняться. По жилам заструится кровь, по нервам побегут сигналы. Задвижутся товары и работники, пересекая огромную державу не за полгода, как ныне, а за десять дней.
Прожект был, конечно, фантастический. Единственную российскую железную дорогу между столицами, длиной всего в 600 верст, строили десять лет и потратили на это бессчетные мильоны, но как идея на далекое будущее Трансроссийская железная дорога безусловно заслуживала рассмотрения. Проблема заключалась в том, что статья была совершенно непечатная – во-первых, по обилию немыслимых дерзостей, а во-вторых, из-за вопиющей неотесанности стиля. Начиналась она, например, следующим образом: «Наша страна Россия на самом деле никакая не страна, а вроде выкинутой на берег медузы. Лежит студнем, еле шевелится. И плавать не плавает, и ходить не ходит. Чего-то такое на одном конце задвигается, а пока до другого дойдет, выйдет пшик. Из естествознания известно, что беспозвоночные твари стоят на менее высокой ступени эволюции, чем позвоночные. Какой отсюда вывод? России надобен позвоночник. И позвоночником этим может стать вот что…».
Читая корявый текст, впрочем, написанный без единой орфографической ошибки, Мишель то смеялся, то крякал. Всё это было чертовски верно и дельно. В ответном письме он расхвалил статью и пообещал напечатать, но попросил разрешения внести необходимую правку, а также посоветовал снабдить прожект статистическими сведениями о железнодорожных успехах других стран.
Внезапному явлению автора Мишель так поразился, потому что сочинение было прислано из самой отдаленной Сибири, на конверте стоял иркутский штамп. Как это Ларцев мог всего через три месяца после отправки обратной почты перенестись из-за Байкала в Петербург?
* * *Внешность прожектера Питовранова тоже удивила. Он ждал увидеть немолодого инженера или слеповатого от чтения книг мечтателя с воспаленным взором, а вместо этого обнаружил в комнате долговязого остроносого парня с длинными волосами, которые сзади были стянуты в хвост, как на Руси делали разве что семинаристы. Ларцев был очень молод, не старше Мишеля, одет в диковинную куртку из вывернутой кожи, такие же брюки или, вернее сказать, штаны и странные сапоги без каблуков. На скрип двери гость обернулся небыстро – сначала кончил разглядывать заинтересовавшую его картинку на стене: разрез новейшего английского парохода «Сити оф Глазго». Ларцев вообще в движениях был не скор, что в таком возрасте, да при худощавой комплекции выглядело необычно.
На приветствие сибиряк просто кивнул, очень внимательно рассматривая журналиста серыми, спокойными глазами.
– Вы, должно быть, прибыли в столицу по своей надобности и разминулись с моим ответом, – сказал Мишель, пожимая крепкую жесткую руку своей пухлой ладонью. – Очень славно, что так вышло. Это ускорит наше дело.
– Нет, я получил ваше письмо в середине февраля и тут же выехал.
– Как это вы за месяц проехали больше 5000 верст? – изумился Питовранов.

– За тридцать два дня, – уточнил поразительный гость. – По зимнему пути быстро. Если, конечно, ночевать на ходу, в санях, и не скупиться на лошадей.
– Но… почему было просто не написать?
– Я спросил бы, какие именно статистические данные вам нужны, вы бы мне ответили, и на это потратилось бы самое меньшее четыре или пять месяцев. Быстрее всё выяснить на месте. Опять же доступ к иностранной статистике в Петербурге много проще. К нам в Иркутск книги приходят с большим опозданием.
Голос был ровный, глуховатый. Мишель подумал, что приезжий старше, чем кажется.
– К тому же, – продолжил Ларцев, – я знаю, что мой слог нехорош, однако хочу быть уверен, что при редактуре не исказится мысль. Слишком важное дело.
Видно было, что он и не помышляет обидеть редактора – просто говорит, что думает. Должно быть, всегда так делает.
Михаил Гаврилович был по-журналистски жаден на необычных людей, а тут, кажется, выдался исключительно интересный экземпляр.
– Позвольте спросить, сколько вам лет?
Оказалось, двадцать два, то есть первое впечатление не обмануло. Ларцев был совсем юноша, на два года моложе Питовранова.
Стало еще любопытней.
– Раз уж вы приехали и нам предстоит совместный труд, давайте познакомимся ближе. Я собирался обедать. Вы голодны?
– Да, – без церемоний ответил интересный экземпляр. – Я с самого Иркутска не ел горячего.
– Так едемте на Садовую. Я там живу.
– Вы меня зовете обедать в ресторан или домой? – подумав, спросил Ларцев. – Если в ресторан, то мне, наверное, лучше переодеться. Я оставил внизу портплед. Там сюртук, сорочка, брюки и штиблеты.
– У меня дома ресторан, а в ресторане дом, и переодеваться не нужно. Сами увидите, – весело молвил Питовранов. – Где ваша шапка? Идемте!
– Шапку я надеваю, когда холоднее двадцати градусов. Сейчас тепло.
По обветренности лба было видно, что чело молодого человека к головным уборам действительно не привыкло.
– У вас тут соринка пристала, – показал ему пальцем Мишель повыше переносицы.
– Это родинка, – ответил Ларцев, с некоторым удивлением наблюдая, как журналист надевает бекешу, закутывается в шарф и нахлобучивает барашковую шапку. По сибирским понятиям погода, видимо, была претеплая.
На Адмиралтейской по мановению Мишеля к ним подъехал было лихач, но, поглядев с сомнением на диковатый наряд Ларцева, стегнул коренника и проехал мимо.
– По вашему платью не поймешь, какого вы состояния, – сказал Питовранов с вопросительной интонацией. В самом деле, трудно было определить, к какому из российских сословий принадлежит железнодорожный прожектер, не похожий ни на барина, ни на простолюдина.
– Государственный крестьянин, – был ответ.
– Вот уж не подумаешь! То ли дело я. По моему почтенному лику сразу видно, что я родом из духовного сословия, – пошутил Мишель.
– Нет, совсем не видно, – возразил сибиряк, и стало ясно, что шутить с ним бесполезно – чувством юмора он начисто обделен.
– Эй, ванька! – махнул журналист следующему извозчику. – Ресторан «Митава» знаешь?
– Кто ж его, барин, не знает. Полтинничек пожалуете?
– Полтинник с москвича возьмешь. А я цену знаю: двухгривенный.
* * *«Митава» была рестораном нереспектабельной репутации. По вечерам к столикам там подсаживались девицы, а в коридоре за зимним садом располагались нумера для кратких свиданий. В одном из таких нумеров, выходившем одной дверью на улицу, а другой прямо в ресторанную кухню – очень удобно – Питовранов и обитал. За 75 рублей в месяц имел крышу над головой, теплую печку и полное прокормление. Это было недорого, если учитывать отменный аппетит Михаила Гавриловича. Митавские девушки любили веселого постояльца, щедрого на подарки и, бывало, столь же щедро благодарили его лаской, совершенно бесплатно, так что получалась двойная экономия. Хорошо жил Михаил Гаврилович, бога не гневил.
– А остановились вы, сударь, где? – спросил он, когда коляска катила мимо златоглавого Исаакия, на который Ларцев посмотрел с любопытством, но без провинциального благоговения.
– Пока нигде. Я только что прибыл в Петербург. Перед заставой вылез из саней, и дальше пешком.
– Почему вылезли?
– Я паспорт не выправлял, самовольно приехал. Ссыльным это нельзя, – преспокойно, будто о чем-то пустяковом сказал Ларцев.
Тут Мишель взглянул на него с еще большим интересом.
– Когда это вы успели набедокурить в вашем возрасте? Студенческое что-нибудь?
– Это не я. Мой отец осужден по делу 14 декабря. На вечную каторгу, по первому разряду.
Питовранов мысленно присвистнул. Что у ссыльных декабристов, лишенных дворянства, детей записывают в государственные крестьяне, он знал, но приговор по первому разряду получили немногие.
– Послушайте, а живите у меня. Право, я буду рад, – сказал Михаил Гаврилович вслух.
– Спасибо, – просто ответил сын каторжника. – Это кстати.
– Только у нас шумно бывает по ночам.
– Ничего. Я могу спать, даже когда на Ангаре лопается лед.
Пригласить в постояльцы малознакомого человека Мишель надумал опять-таки из любознательности. О декабристах много говорили, очень интересовались их трагической судьбой, но из глубины сибирских руд никто в столицу еще не воротился, даже помилованным это было строжайше воспрещено. Здесь же появлялся шанс узнать всё из первых рук.
Ларцев, правда, не был похож на говоруна, и подход к нему требовался нелобовой. Но в подобных делах Питовранов считал себя мастером.
Не заводя гостя в нумер, он сразу отправился на ресторанную кухню и велел повару Прокопию Ивановичу подать к столу всё самое лучшее и побольше. У повара Мишель ходил в фаворитах, отказа ему ни в чем не было.
– Уху кушать будешь стерляжью, – строго сказал Прокопий Иванович. – Расстегаев не дам, они нынче не задались. Пирожки с вязигой – те да, хороши. На горячее твоих любимых баварских сосисок дам и каплуна. Как твой гость насчет каплуна?
– Мне все равно что есть, – ответил Ларцев, и повар за это сразу его не полюбил.
Под закуску – паюсная икра, финская селедка, хрустящие артишоки – Мишель невинно поинтересовался:
– Статья ваша подписана «Адриан Ларцев», а какое ваше отчество?
– Дмитриевич, – сказал молодой человек. Вместо всех разносолов он съел лишь кусок черного хлеба с солью, от перцовой настойки отказался.
Тут-то Питовранов в него и впился.
– Странно. Я в свое время очень интересовался декабристами, но что-то не припомню среди заводил, которые получили приговор первого разряда, никакого Дмитрия Ларцева.
– Мой отец не был заводилой. Он приплыл из-за границы прямо накануне восстания и на Сенатскую площадь угодил случайно. Будучи арестован, очень рассердил царя, сказав, что монархическая власть оскорбительна для человеческого достоинства, а еще потребовал, чтобы «Николай Павлович» ему не тыкал. Получил вечную каторгу по личному распоряжению императора, за дерзость.
Мишель поневоле усмехнулся.
– Как наш Атос! Он повел бы себя точно таким же образом и тоже угодил бы в вечную каторгу за пустяк.
– Атос? Кто это? Что за странное имя? – спросил Адриан Дмитриевич.
– Это кличка. Нас трое приятелей с мушкетерскими прозвищами. Я – Портос, а еще есть Арамис.
– Почему с мушкетерскими? – удивился Ларцев.
Еще больше поразился Мишель.
– Вы не читали роман Александра Дюма?
– Я не читаю романов. В них содержится слишком мало сведений, заслуживающих доверия.
В самом деле экземпляр, подумал Михаил Гаврилович.
Экземпляр быстро съел тарелку ухи, одну сосиску и отодвинулся от стола. Питовранов еще и с первым не закончил – он имел обыкновение съедать каждого блюда по две тарелки.
– Что же вы больше не кушаете?
– Спасибо. Я уже сыт. Тайга отучила набивать желудок больше нужного. Чувства притупляются и в сон клонит.
– А я еще попритупляю, – молвил Мишель.
На кухню заглянула одна из девушек, именем Лизетта, бойкая ревельская чухонка. Она была в затрапезе – видно, только что проснулась.
– Ой, Мишульчик! Как хорошо, что ты здесь! – обрадовалась она, чмокнув Питовранова в щеку. – Бяка Прокопий меня не кормит, я ему задолжала. Дашь чего-нибудь поклевать?
Не дожидаясь разрешения, удобно устроилась на толстом колене журналиста и стала вынимать из ухи кусочки рыбы прямо пальцами.
– Клюй, птаха, только не егози и не лезь в разговор… А где содержался ваш отец?
– За Читой, в Нерчинской каторге.
– Я слышал, там тяжелее всего.
Адриан Дмитриевич кивнул:
– Да, там строго. Но мой отец на каторжных работах не был. Он бы там дня не выдержал. Не имел привычки к тяжелому труду и особенно к грубости.
– Да как же? Вы рассказывайте, рассказывайте. Мне про вашего отца ужасно интересно. Он, видно, харáктерный субъект?
– Ну, это скорее можно сказать про мою мать. Вот у кого был характер. Мы с отцом почти никогда ей не перечили, а когда пробовали, потом получалось, что правота за нею.
И Ларцев спокойно, без дальнейших расспросов, принялся рассказывать. Должно быть, увидел, что слушателю в самом деле интересно.
Мать его была урожденная Катина, звали ее Александрой Ростиславовной. После приговора она отправилась в Сибирь еще раньше прославленной княгини Трубецкой, но сделала это без огласки, не дожидаясь позволения, поэтому отъезд был не замечен публикой. Причина заключалась еще и в том, что Ларцевых в свете никто не знал, они лет десять прожили в Северо-Американских Штатах и в декабре 1825 года вернулись на родину по семейному делу. Предполагалось, что ненадолго, а получилось – навсегда.
Александра Ростиславовна последовала прямо за этапом, не выпуская мужа из виду. Пока Дмитрий Ларцев сидел в крепости, она продала свое богатое подмосковное поместье, так что денег у нее было много. Перво-наперво она дала взятку, чтобы с супруга сняли кандалы и дозволили ему ехать в коляске. Ларцев отказывался пользоваться привилегиями, пока их лишены товарищи, и тогда решительная дама заплатила за всех остальных. Каждый из конвойных получил по сто рублей, а начальник пять тысяч. Так же она потом действовала и в Сибири. В казенных отчетах осужденного Ларцева числили каторжным, а на самом деле он жил на поселении, с женой. Будучи особой умной и предусмотрительной, Александра Ростиславовна в Нерчинске не заплатила всю взятку сразу, а, по ее выражению, взяла мужа в аренду, то есть выдавала коменданту и прочим причастным лицам некие суммы помесячно. Когда кто-то сменялся, выплата переходила к нему, и порядок сохранялся. Начальники, конечно, рисковали, но суровая российская жизнь только тем и сносна, что у служивых людей жадность сильнее страха. Да и далеко было от Нерчинска до высокой власти.
– Постойте, – сказал тут Питовранов, слушавший во все уши. – Коли ваши родители успели до восстания десять лет прожить в Америке, выходит, они были уже немолоды. У вас, верно, есть старшие братья или сестры?
– Никого. Я первый и единственный. Мать родила меня после семнадцати лет замужества, уже в Сибири. Она никогда не желала детей, у нее были более интересные занятия. Но отец стал хандрить, тосковать, и ей придумалось, что нужно дать ему смысл в жизни. Этом смыслом должен был стать я. Решила – и родила.
– Как это возможно? То семнадцать лет ничего, а то вдруг решила и родила? – спросил Мишель.
– Она была превосходный врач и хорошо знала, как управлять своим организмом.
Тут Лизетта, до сего момента помалкивавшая, перестала грызть крылышко каплуна и заинтересованно спросила:
– Чем ваша мамаша оберегалась? Или она, забрюхатевши, вытравливала?
Питовранов легонько стукнул нахалку по затылку, но Ларцев невозмутимо ответил:
– Полагаю, она пользовалась какими-нибудь травами. У нее была аптека с лекарствами собственного изготовления на все случаи.
После этого короткого отступления он продолжил свой рассказ.
На двенадцатом году сибирского житья средства от продажи поместья стали подходить к концу. Тогда госпожа Ларцева на время оставила супруга и маленького сына. Она совершила большое путешествие в Америку, где продала другое свое имение, хлопковую плантацию, и после годового отсутствия вернулась обратно в Нерчинск. Новых денег хватило аккурат до 1845 года, когда по истечении двадцатилетнего срока все выжившие «перворазрядники» были уже официально переведены с каторги на поселение.
Дмитрий Ларцев практическими материями не заботился. Он пристрастился к ботанике, собирал гербарии и увлеченно составлял атлас флоры Забайкальского края. Александра Ростиславовна мужа от его ученых занятий не отвлекала. Она лечила местных жителей, воспитывала сына, а когда американский капитал иссяк, изобрела другой источник дохода.
– Погодите-погодите, – вновь встрял с вопросом Мишель, которого все больше интересовал сам рассказчик. – А как она вас воспитывала?
– Обыкновенно, – пожал плечами Ларцев. – Закаливала холодом. Объясняла, как всё в природе устроено. Приучала не трусить и попусту не рисковать. Ценить пищу не за вкус, а за полезность. Преподавала нужные знания и навыки. Особенно медицинские. Вынуть пулю, вправить сломанную кость, зашить рану.
– О господи, – пробормотал Питовранов, вспомнивши свою тихую маменьку-попадью.
– Впрочем в тринадцать лет меня передали в обучение одному охотнику, – как ни в чем не бывало продолжил Адриан Дмитриевич, – и несколько лет я жил попеременно то на заимке, то дома. Но в тайге мне нравилось больше, потому что дома с утра до вечера меня учили математике, географии, физике, химии, механике, немецкому с французским. Английский-то я с рождения знаю. Родители на нем промеж собой разговаривали, мы ведь американские граждане.
Михаил Гаврилович только головой покрутил, вообразив себе компот, в котором варился сын ботаника-декабриста и эксцентричной барыньки.
– Стало быть, вы государственный крестьянин, американский гражданин, лекарь-самоучка, таежный охотник, беглый ссыльный – и кто еще?
– Мое главное занятие в другом, – сказал Ларцев, не заметив иронии.
И стал рассказывать такое интересное, что Питовранов больше уже не перебивал. Только один раз, уже после десерта, пододвинул Адриану Дмитриевичу коробку с сигарами.
– Не курю, – качнул тот головой. От коньяка тоже отказался.
Насытившаяся и от коньяка отнюдь не уклонившаяся Лизетта давно уже неотрывно смотрела на Ларцева своими круглыми кошачьими глазами. В ее головке шла какая-то своя работа.
– А с девушками вы водитесь? – спросила она.
– Если друг дружке понравимся, – серьезно ответил он.
Лизетта вздохнула.
– Это правильно. Я тоже, когда денег накоплю, буду любиться только с теми, кого обожаю.
Мишель ссадил ее с колена и выставил из кухни, чтоб не мешала.
Беседа длилась до самых сумерек. Время пролетело незаметно.
– Уже почти шесть! – спохватился Михаил Гаврилович. – Скоро будут Атос с Арамисом. Поедем ужинать.
– Мы же только что поели?
– То обед, а то ужин, – удивился Питовранов. – Едемте с нами, я вас познакомлю с приятелями. Вы друг другу понравитесь.
– Я не могу столько есть.
– Ну и не ешьте. Мы собираемся в «Красный Кабачок». Там музыка, весело. Посмотрите на петербургскую публику. Что вам взаперти сидеть?
Они зашли в нумер, где Мишель поменял дневной сюртук на вечерний. Переоделся в обычную одежду и Ларцев, отчего сразу перестал являть собой оригинальную фигуру. Стал просто длинный, тощий юнец в широком, мешковатом сюртуке, с не по-столичному обветренной физиономией и странной точкой посреди лба.
Воронцов с Ворониным, уже ждавшие на улице в коляске, на мальчишку едва взглянули. Он их ничем не заинтересовал, а только раздосадовал. Благовоспитанный Эжен хоть вежливо поклонился, а Вика буркнул:
– Черт бы тебя драл, Мишель, как это некстати!
– Что это вы оба чудные какие-то? – спросил Питовранов. – Случилось что-нибудь?
– Случилось…

Рокировка

Таинственный разговор между Атосом и Арамисом на выходе из бильярдной – о некоей Корнелии и ее странной записке – требует разъяснения.
Устраивая перед смертью благополучие единственного сына, сенатор Воронцов позаботился не только о его служебной будущности, но не забыл и о семейном счастье – присмотрел хорошую невесту да взял с безотказного Евгения Николаевича слово исполнить последнюю волю умирающего.
Дочь лицейского приятеля старого графа, Льва Карловича Дорфа, к тому времени уже покойного, была девушка небогатая, но замечательно умная и твердая. Именно такая супруга, по убеждению сенатора, и требовалась витающему в облаках Эжену, который, будучи предоставлен сам себе, скорее всего избрал бы спутницу, вряд ли ему полезную.
Корнелия Львовна обладала исключительными достоинствами. Поначалу Атос стал бывать у нее единственно по долгу сыновнего послушания, но скоро полюбил барышню всей душой, а еще больше влюбился в дом.
Дело в том, что девиц Дорф было две – еще Лидия Львовна, сестра будущей невесты Эжена, существо тоже притягательное, хоть в совсем другом роде.
По внешности они были совершенно одно лицо, поскольку родились на свет одна через десять минут после другой: стройные и белокожие брюнетки с крупноватым носом и широковатым ртом, то есть отнюдь не красавицы, но очень, очень привлекательные. При этом спутать Лидию с Корнелией было невозможно, слишком уж они были разные, прямо с колыбели. Когда первая лежала смирно и только плакала или улыбалась, вторая все время пыталась приподняться, ухватиться за перильца и даже вовсе вылезти. С годами это различие темпераментов только усугубилось.
Старшая, Корнелия, была пугающе умна, остра на язык, любительница во всем предводительствовать. Младшая покоряла милотой и девичьей беззащитностью. Корнелию она во всем слушалась, почти боготворила, та же в ответ оберегала ее от всех волнений и неприятностей.
Неудивительно, что отец Эжена остановил выбор на Корнелии Львовне, угадав, что она будет покровительствовать и над мужем. Молодому идеалисту подобная защитница придется кстати.
Как уже было сказано, Евгению Николаевичу очень нравились обе сестры. У них дома он чувствовал себя, как в элизиуме. Корнелия занимала его увлекательной беседой, Лидия волшебно играла на фортепиано – у нее было удивительно нежное, мягкое касание, а иногда сестры пели на два голоса, сопрано и меццо. От этого дуэта сердце приходило в трепет.
Однажды, когда Эжен делился с Ворониным своими восторгами, тот возьми и скажи:
– А не жирно тебе будет одному двух сирен? Не жадничай, поделись с товарищем. Судя по твоим рассказам, Лидия Львовна совершенно в моем вкусе.