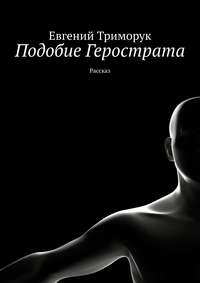Полная версия
Выбор смерти. Сборник рассказов
И вне стен Третьего отдела нарушение могло привести к другим дефектам, что к уже имеющимся проблемам добавляло новые. Да и статус понижался от Четверки до Пятерки. А за эту черту никому не хотелось переступать, потому что она считалась точкой невозврата. Дефик практически лишался прав. Его не лечили. А выдавали легкие обезболивающие, после которых становилось еще хуже.
Говорили, что Шестерки не доживали и до третьей стерилизации. На том и останавливались. Дальше задумываться запрещалось. Да и инъекция по Однопамяти ограничивала мысли, словно вырастала стена, которую подвинуть никак не удавалось. А за ней что-то и находилось. Но это продолжалось недолго, потому что всплывал стимуляционный образ. Как раз по ширине стены становясь экраном и каналом «Эр Ору – Эл».
И к ночи забывалась малейшая попытка преодолеть стену. Она мелькала перед глазами, но то, что это стена, уже никто не понимал и не помнил.
VI
Единица, наконец, настойчиво его вызвала. Ей надоело, что она столько времени потратила на Тройку. И от нее не ускользнуло, что он пропустил людей вне очереди. Даже мелькнула худощавая Четверка, грудь которой вызвала в Единице зависть и отвращение. Но сама себе Единица в этом не призналась, думая, что все-таки из-за Тройки она дольше насладилась видом доктора (Высший, ухоженный, галантный), и теперь у нее полный набор на недельную (мечта!) самостимуляцию.
Тройка вновь попытался открыть глаза, но резкая боль тут же их пронзила тонкими острыми лезвиями. Словно бы между ресниц сосредоточились лучники, которым дана команда при попытке поднять веки стрелять незамедлительно.
После попытки раскрыть глаза, Тройкой овладела досада, и уверенная готовность к защите. Ко всему прочему примешивалось еще одно чувство, но оно было слишком важным и сладостным, чтобы его обозначить хотя бы пунктирной чертой.
В кабинете сидел молодой специалист, как и предполагалось Высшему, но на которого по негласным законам никто из дефиков не осмеливался поднять глаза, даже если бы смог. Доктор задавал сухие вопросы. Пациент выцеживал сухие ответы. И с каждым разом старался ограничиться односложными словами «да» или «нет», имеющие двойное содержание.
Тройка с усилием старался приподнять голову, а затем и веки, после чего с облегчением сдавался, как достойно принимающий поражение. Он понимал, что ему не переиграть Высшего. И вирусные однообразные интонации не попадали в цель. Доктор выдерживал регламент.
– Сколько ты здесь? – Тройка не понял вопроса.
– Минут пять.
– Нет. – Что-то отметил у себя Высший, пристально всматриваясь в Тройку. – Я не об этом спросил. Хотя… Знаешь. Очень интересно.
– Да?
– Почему ты ответил так?
– Я не понимаю.
– Хорошо. Почему ты здесь?
– Где?
– Ты в прошлый раз не так ответил.
– А как?
– Тройка, сколько ты здесь находишься?
– Здесь? У вас? В кабинете? – услышав такие ответы, доктор улыбнулся.
– Хорошо, Тройка. А в городе сколько? Месяц, год?
– Я дальше недели не удерживаю ничего в памяти. И говорю, не понимая, как и что. Инерция какая-то.
– Инерция. Какой давнее слово для Тройки. – Доктор вновь что-то написал. – А что такое рефлексия ты в курсе?
– Разговор грозит затянуться?
– Да, Тройка, – Высший с явным удовольствием записал что-то еще. – «Грозит затянуться». Прекрасно. Так ты не помнишь, сколько здесь, в городе, живешь?
– Нет. Как будто недели три.
– Отлично.
– Или три дня.
– Замечательно.
– Или три часа.
И Высший уже отпустил Тройку, когда тот по наивности задал мучительный для всех дефиков вопрос.
«Скоро найдут лекарство, верьте». – Ответил невозмутимо доктор. Но Тройка как будто слишком часто слышал эту фразу. И уже вторым слоем сознания улавливал, что новенькие в последнее время особо не прикрывают заученные слова. «Пока же продолжайте принимать „Мерло-Рабокон“. Вы ведь помните, он смягчает боль. И пока новое средство „Рабонал-Понти“. Стимулирует возбуждение. Вы систематически себя ублажаете? Единицы и представлены для стимуляции. Вы ведь знаете? Вы ведь помните? Простите. Сам забылся. Да бросим. Можем и заменить. Единицу. – Как будто запинался. – Говорят, что нынче в моде убогие Четверки и Пятерки. Они только глупы, но ведь не уродливы. Ученые врать не будут».
И после этих слов Высший почти вытолкнул Тройку, словно извиняясь за что-то.
В прошлый раз доктор попался солиднее и сдержаннее. Тогда очень был популярен «Мерло-Рабостад-Понти». Но Тройка с точностью не смог бы сказать, сколько месяцев или лет назад он видел того врача, утверждавшего, будто бы его давным-давно излечили, когда диагноз был ужасающий – Хроническая Двойка. При этом только смутные ощущения, только некоторые голосовые комбинации проскользнули в сознание Тройки, и ему показалось, что просочился искусственный элемент, какое-то грубое наслоение, жуткая пелена, лишенная настоящего смысла. Правда, от него сейчас осталось не более чем подозрение. Не тогда ли он ударился? У Площади Библиотекарей? Может, гораздо ближе?
VII
Самые первые процедуры проходили в присутствии женщины-врача. Глубокий вырез декольте. Настойчивое требование не отводить глаз, потому что, как говорят исследователи, вид женской груди успокаивает нервы мужчин. И мешанина в глазах словно теряла свою интенсивность. Качество взгляда как будто улучшалось. Картинка обозначалась отчетливо. С такой зарисовкой еще больше тянуло вернуться к себе, в свою комфортную комнату, чтобы не утратить впечатление и насладиться тем единственным, что принадлежало только ему. Но даже после стерилизации, как бы Тройка не переживал, кадр глубоко выреза не исчезал из камеры глаз. Притуплялось ощущение, эмоция. Но не образ.
Когда Тройке показалось, что стало немного легче, и глаза меньше жгли при дневном свете, врача и ее коллег почему-то это несколько расстроило. Она усомнилась в его самостимуляции и пригласила ассистента, молодую Единицу, которая, торопливо постукивая туфельками, неумело скрывала свое недовольство, при этом благоговея при Высшей. Но доктор настояла на некоторых ласкательных жестах, и Единица с удовольствием ее поцеловала.
К утру перед приемом «Мерло-Рабостада-Понти» глаза прожигало так, будто вытащили каленую иглу, дошедшую до мозга; а прикосновение руками или ополаскивание водой приводили к нестерпимому раздражению и боли; и слезы не прекращали идти, пока лекарство не подействовало.
Тройка еще долго не решался повременить с самостимуляцией.
VIII
Когда Тройка вышел во Второй отдел Процедурной, то не мог угадать, почему ему навязывают мужчину-врача, который не очень скрывал предательские интонации.
Казалось, что здесь подвох. Но Тройка не верил, стал прислушиваться.
Женщины больше стимулировали, отвлекали. Их присутствие несколько увлажняло сухое жжение глаз. Тройка не отрицал, что его привлекают часы на руке врача, не сказав действительной причины, но это, видимо, восприняли как знак, что стимуляция от вида мужчины более действенна. Тройка и здесь сдержался.
Раньше он не достиг бы того, что ему удалось проделать сейчас. Поэтому «просто повезло» его примирило. То, что Сопроводительница из Единиц уже не менялась почти восемь месяцев, тоже способствовало облегчению. Ее торопливость и раздражение искажали картину стимуляции. Да и он, Тройка, уже слишком к ней привык, чтобы себя ублажать.
В том, что ее не меняли, тоже был какой-то недочет. Точно ли у слепых нет воображения?
Ученые врать не будут.
До инъекции Тройка старался не забыть все, что накопил за неделю. Но уже по опыту знал, что ему это не удастся. Более ощущало. Однопамять наслаивалась на другую Однопамять.
Один вопрос он придерживал для себя. Услышит ли он бой курантов, которые пробьют восемь вечера? Поэтому он вынужден был семенить и просчитывать шаги Сопроводительницы. Если опоздает на пару минут, как это уже случалось неоднократно, то инъекция подействует, и он снова проснется в замешательстве и с нудящей головной болью.
Листая небольшую книжицу, Тройка обнаруживал редкие хаотичные записи. Наискось прописанные даты с двумя-тремя очевидными интервалами, что могло говорить о том, когда инъекция Однопамяти действовала вовремя. Ломкий неуверенный почерк. Угловатые буквы. Напоминания. И вопросы, которые он неизменно задавал Сопроводительнице; и ответы, которые должны услышать врачи. Несколько раз записи повторялись, несколько изменяя суть вопросов. Иногда казалось, что разные личности пользовались записной книжкой.
Засыпал Тройка на спине, закинув руки за голову. Он воображал. В его мире оттенки и цвета выражались отчетливо. Глаза не жгло. И он без боли смотрел на яркое солнце, которое ему не угрожало. Он перебирал вопросы. В одной строке он уловил запись «Цикл-232». Через несколько строк «Повтор-25».
Сколько точно раз он произносил про себя вопросы и сколько раз уже пытался вырваться за их пределы, он не мог сказать наверняка. Но больше его интересовала графа «Исследователи не врут».
Журнал «Эпохальное время» регламентировал не больше тридцати новостей. Как раз цикл между инъекциями. Название лекарств и время приема.
Одна из Четверток с Хроническим вирусом обоняния, недавно бывшая в приемной Первого отдела, показалась картинкой для одинокой самостимуляции. Но Тройка ошибся. Как он по бою часов молчаливо сопротивлялся Процедурной, так и она просыпалась после инъекции, вслушиваясь в его дыхание через стену, определяя по аромату его присутствие.
На девушек иначе действовал несовершенный аппарат Процедурной.
Тройка попросту для проверки пару раз ей шепнул несколько незначительных слов. Добавил мягкости в голосе, хотя обошлось бы и без них. С нею и без того очень мало разговаривали. Тройка в один прием выразил больше, чем она слышала. И больше он ее не вспоминал.
Тройка прижался спиной к стене. Пятки вровень. Выше голову. Глаза во всю ширь устремлены в космос. Сколько долгих недель он потратил, чтобы преодолеть боль в глазах, но так их и не преодолел. Скорее, боль стала привычкой.
Теперь он видел чистоту звездного неба.
С непривычки еще немного пощипывает, но уже не то, не так, как восемь месяцев назад. Или больше? И какое ему дело, что об этом не догадываются, или не должны, Высшие? Вскоре он будет ходить прямее, пусть и медленно. Пусть во тьме. Пусть в одиночестве.
Он пройдет с очередной Единицей до Процедурной, не помня этой ночи. И снова будет вспоминать.
И в очередной раз, силясь открыть глаза, чтобы все-таки проснуться и вырваться из магнитной бездны тяжелых сновидений.
МОЛЧАНИЕ МОРФА
Совсем не знак бездушья – молчаливость.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
У. Шекспир. «Король Лир»
Кричащая красота Марии, жены Михаила Морфа, вызывала естественную и двусмысленную озабоченность. Возбуждение. Зависть. Казалось, что с Михаилом дружат ради общения с нею. Казалось, что ему отведена участь рогоносца. Казалось многое, на что также легко навесить ярлык.
Когда в Метрональдсе появился маньяк, вылавливающий в парке им. В. В. Лолиты привлекательных девушек, многие стали шушукаться. Тревожиться. Бояться. Готовиться к обороне.
Звонок Михаилу Морфу был непримечателен.
Я неизменно пялился на его худую полку, где было всего несколько книг: «Татьяна Онегина» Владимира Базарова, «Подвиг Лужиной», Евгения Мартынова, «Каменная подруга» Бориса Меншикова и «Война И. Берия» Льва Набокова. Михаил предпочитал электронные версии и, наверное, это выкрал у меня, не любил коллекционировать книги, которые либо прочел, либо не успевает прочесть и о существовании которых забыл.
Михаил необычно поспешно сбросил звонок, пока я оценивал содержание и уровень знания его полки. Он по-прежнему оставался бледен. Он размышлял. Медленно и мучительно. Это уже я коллекционировал, но по лицу было видно, что это не игра.
Я вспомнил, что он сделал сброс так, как это несвойственно его характеру. Дергано. Удручающе. Михаил Морф всегда действует честно, ровно и прямо. Более честного человека я не встречал.
Он достал сим-карту и положил ее в карман.
И впервые у него появилась просьба ко мне, молчаливая, робкая, мягкая, как фамилия его матери – Мармеладовой Марии.
Знаете такую игру, когда по внешности человека определяешь, чем он занимается и кто он такой? Или игра в эмоции. Мы с Михаилом Морфом угадывали мысли друг друга, и потом их озвучивали. Например, по его грязной посуде и различным пустым банкам и пакетам полуфабрикатов, я ему разъяснял, почему он не умеет и не любит готовить, хоть мог съесть галлон борща за один присест.
Учитывая, что я с гаджетами как с дальними родственниками, и все навигации у меня встроены благодаря тому же Михаилу, я, очень любопытный до его характера и мышления, отдал ему свой смартфон «Годунов» без промедления. Их он настраивал под мое эго.
Были, конечно, и скрытые мотивы, почему я с ним общался, почему дружи. А куда без этого? А потом, как на социальные сети, я подсел на его дружбу. Я стал зависимым от него. Я вошел в ту зависимость, которая уже утратила грань между мной и я, и так далее.
Ничего не поняли? Утраченная грань – это когда ты сегодня добрый, а завтра злой; сегодня серьезный, а завтра дурной.
Нет решительного тебя, твердого меня.
Зато уже есть осознание, что этот человек понимает и объясняет тебе больше, чем ты ему. Хотел написать «дает», но у нас столько подозрительных сочетаний в языке, что страшно употреблять их в достоверной связи с мыслями.
Я уже писал, редактировал, извещал, оповещал только по этому устройству, по «Годунову». Так висели «Победители Апокалипсиса», «Переселенцы рая», «Государево кайло» и «Подобие подобия». Чего стоят крупные тексты «Их» и «Они».
Михаил уставился в одолженную ему мной книгу. Я забывал и названия книг и тех, кому их давал. Пока я вычитывал «Приглашение к дару».
С говорящими именами я только-только стал работать. Фамилии Годунов, Колчак, Троцкий, старший Набоков уже вертелись в моей голове вокруг призрачных и туманных идей. Хотя мне явно нужен был либо большой экран, либо небольшой блокнот, либо длительный сон, либо еще что-то. Таких «либо» у меня каждый день по пачке сигарет «Графиня Турбина». И еще по упаковке таблеток «Княгиня Мышкина».
Теперь же нужно было немного сосредоточиться на заботах Михаила Морфа, на друге, а он знал достаточно секретов обо мне, чтобы мы назывались друзьями. Тем более, что тут развитие было из ряда вон выходящее даже в пределах воображения, даже в пределах того, чему нас учат. У человека, который недавно женился, выкрали жену. Маньяк звонит с явными намерениями и требованиями. У него все рычаги управления на руках. Есть вопросы? У Морфа их больше всего.
Укради мою женщину, я бы превратился в ничто. Морфу хватило духа при первых словах выключить телефон и избавиться от его присутствия.
После Михаил отключил компьютер. Позвонил матери. Четко, тут он был явным тираном, дал ей инструкции, что делать. Я не решался ни вмешиваться, ни задавать вопросы вслух. Он знал, что я случайный свидетель, которых обычно убирают, как обычно показывают в остросюжетных детективах и новостях. Он также знал, что, не имея возможности реализовать свои теории в жизни, я использую жизненные истории моих знакомых, приятелей, товарищей, любую публичную информацию.
Грубо говоря, идею можно высосать из пальца. Писатели ведь как вирус. Им бы только сочинять. Собственно, я давно это ему сказал.
Мой комментарий в адрес того, что его жена пропала, что, возможно, ее похитили, он пропустил мимо ушей. Я попросту Кюхля, дилетант. Как будто он не знает, что произошло.
Михаил Морф многим был неприятен. Особенно неприятен тем, кто не ценит слушателей. В любой момент Михаил мог развернуться и, даже извиняясь, уйти, и не потому, что он был не вежлив, совсем наоборот. Правда, порой у него случались затяжные периоды молчания. Это уж или характер, или теория.
Заходишь порой к нему в гости, а он лежит и никак не реагирует на твои слова. Просто лежит. Лежит и ничего не говорит. Глаза в потолок как у раненого.
Я видел таких. Но Михаил отличался, наверное, как многие из нас, если забыть, что у некоторых удаленные, отвлеченные, аморфные ценности. Он, Михаил, что называется, был приземленным. Здешним. С четко рассчитанной организацией жизни, действий, потребностей и возможностей.
Вот же сволочь. Мое недоумение и дежурное выражение, говорящее о том, что я хочу помочь, он проигнорировал более тупым молчанием.
Он словно уничтожал все резервы, которые у него были, потому что вошел сосед, знающий Марию, и передал смартфон «Пугачев», новый дизайн. Бедный Михаил вырвал его. И тут же сказал фразу, подобную «фас». Моя рука легка, когда я разливаю, иначе действую опрометчиво.
Какой писатель не удовлетворит потребность в избиении другого писателя в прямом смысле?
Сосед был возмущен тем, что разбили его аппарат. Тем, что так наплевательски отнеслись к его благородным поступкам, тем, что он ничего не успел осознать, тем, что люди такие жестокие вообще, и не понимают чуткой натуры поэта, который стремится к вечности.
Как в фильме «Сашка Андреев», я двигался быстрее и умнее, но с человеком, отслужившим в космических войсках, сложно бороться. Он меня избил, как щенка, и вышел из комнаты. Нам с Морфом оставаться здесь было нельзя.
Да, я приврал по поводу моих способностей к рукопашной.
Из комнаты Михаил в своих приступах молчания не выгонял, чем я и пользовался. Не принимал никаких споров в разговоре.
Позже я нашел лазейку, вполне приемлемую для себя. В таких случаях, как с Михаилом, я просто говорил и говорил, говорил и говорил, а потом уходил.
Сейчас же украли его жену, и он не выходил на контакт ни с кем, кроме меня, разумеется, потому что мы перебрались в мою комнату, где до него не доберется ни маньяк, ни соседи с боевыми навыками.
Мы обсуждали вопросы моего тщеславия, тщеславия местного варианта и тщеславие как основу психотипа творческих людей. Попутно размышляли о Вадиме Дубровском с его личностной философией для себя, когда человек устанавливает правила и религию в пределах своих желаний. Михаил воспринял неписанную, точнее, недописанную теорию Дубровского о выявлении собственной философии и религии слишком буквально. И написал свой трактат, который называл «Морфологией молчания».
Мне было известно только название. Читать его я не собирался.
По отрывкам я могу предположить, что в его трактат вошла концепция нашей игры. Правда, из меня плохой отгадчик. Как можно угадать мысли и действия человека по-настоящему? В пределах шутки еще возможно. Опять же, человек не тумбочка, чтобы ее переставить и расположить по своему усмотрению. Он, человек, вдруг возьмет и чихнет в самый неожиданный момент, и вдруг передумает, например, идти в магазин, зато вдруг развернется и пойдет в поликлинику.
Следующая связь с «маньяком» пошла из университета, которую передавала моя сердобольная знакомая, но я отмахнулся. Михаил посмотрел на меня так, словно сегодня или завтра мне придется сделать что-то помимо потасовки с соседом, которого я и так ненавидел.
Маньяк, значит, за нами следил. Он знал номер Михаила, его учителей и родителей, мой номер и моего соседа. Может быть, с убежищем в моей комнате я тоже прогадал?
Мария Морф была откровенной болтушкой, что придавало ей больше прелести и очарования. Она словно восполняла собой тот необходимый баланс речи, который приходился на ее мужа. И откровенно раздражала. Меня – очень. Но я молчал. Михаил же берег отношения с ней, как муж, и со мной, как с другом.
Мне же не хотелось вмешиваться в их отношения в период встреч и свиданий, потому что это его выбор, а не мой.
Михаил был первым критиком, чье мнение я учитывал больше второй жены. Тогда у него в гостях мы распространялись немного о современной литературе. Да, повторяюсь. Да, в виде сплетни. Извините.
В Евгетии, что чиновники, что писатели, организовывались в отдельный класс. Тогда-то ему, Михаилу, и позвонили.
Михаил Морф даже не спросил, жива ли она, цела ли она, чего хочет этот маньяк, который уже третий месяц шантажировал Метрональдс. Даже если это была шутка, Михаил решил не участвовать.
Я глупо заметил, что, если бы это и была шутка, но недооцененная, то она является бесполезной. Михаил промолчал.
Слишком сложно выразился, да? Попробую иначе.
Кто больший дурак, если шутку не поняли: кто ее придумал, или тот, кому ее рассказали?
Длилось мучение с кражей Марии долгие трое суток. Это нам прибавило и жизни, и смерти. Михаил стал седеть и лысеть одновременно. Я не утрирую.
После принятия клятвы Ганнибала чиновники еще больше озверели. Теперь они жили одним днем. До выхода на пенсию еще далеко. Пока же Орден Зла доберется до них, страдали по-прежнему самые невинные и безучастные. Михаил отшучивался.
В средствах массовой информации поднялась шумиха. Девушку украл маньяк, а муж избегает контакта. Полиция уже ищет обоих. Мы передислоцировались в другое жильё.
Михаил что-то писал в своем блокноте. Он много писал. Но хотел писать мало. Один его рассказ стоил романа Куприновой «Ромашов на поединке».
Когда ввели налог на творчество, Михаил промолчал. Когда стали придираться к каждому слову, несущее «агрессию» и явные «гендерные признаки мужественности», Михаил не проявил активности. Даже когда намечался закон «на привлекательность», он сохранил спокойствие. Его скромный бюджет уходил на критические заметки, которые кормили его семью, не считая матери, она жила в Дарграде.
И вот теперь добавился налог «на вызов агрессивного воздействия по отношению к представительницам эволюционного развития». Михаил Морф платил за свое воображение, за свой талант, за красоту своей жены.
Последующие попытки маньяка связаться с Михаилом были через его родителей. Но предупрежденная мама, любящая мама, беззаветно преданная мама послушалась сына. Хотя невестку она все-таки любила.
Мне трудно об этом судить, потому что я не видел их единственной встречи.
Михаил еще тогда позвонил с моего второго смартфона «Шуйский», чему я был и смущен, и несказанно рад. Мать заперлась в квартире, благо, как намекал Михаил, она была очень экономной женщиной, способной выдержать безвылазно больше месяца. Опять же, ночью ведь не установишь патруль, как в фильмах?
Можно назвать это явление, явление молчания, маниакальным. Когда-то эту фразу мне сказал наш друг, Думбровский. Наркотики возвращают умерших. Мне же всегда нужно было с кем-то поговорить.
Однажды фразу моего покойного друга, выпрыгнувшего из восьмого этажа, я перефразировал Михаилу Морфу. Он не отреагировал в свойственной ему внимательной манере. Моргнул глазами – и все.
На следующий день, немного позже, чем рассчитывалось, к Михаилу уже подходили с записками, которые он, не читая, рвал. На горизонте наметились опера, сыскари, и прочие охранные структуры.
Невольно, он отстранился от всех, как будто отклонился ко мне и хотел что-то сказать. Но промолчал.
Преданные собачьи глаза людей оскорбляли мою природу. Я был в бешенстве. Меня бесило проявление этой заботы. Никто не понимал, почему так поступил Михаил. Никто.
Мария удостоилась шепота Михаила. Они, не имея места для секретов, первое время ютились у меня, на первой квартире. Кажется, он, как влюбленный мужчина, говорил лишнее.
В его черновиках встречал фразы «молчание как бунт», «дар как выражение». Мне нужно было спать. У меня была лишняя комната. Да, я подсматриваю хотя бы на том праве, что живут у тебя. А иначе как? Зачем писать, если не хочешь девочек и наркотиков? Зачем сдавать комнату друзьям, если не хочешь услышать, как они занимаются сексом или хотя бы выведать, что хранят их смартфоны.
Когда же к Михаилу подошли с устным сообщением, этот, Михаил Морф, ранее молчаливый и неуверенный, нанес самый уверенный удар слева. Человек пошатнулся. Михаилу пришлось убегать.
Я же все равно не мог сосредоточиться, потому что под воздействием «Княгини Мышкиной», очень сильного психотропного наркотика, не мог остановиться.
За эти трое суток я успел настрочить три рассказа и одну повесть, не считая рецензий и сообщений. Нет. Этот смартфон «Рюрик» был глушеный, мертвый.
Я включил память, которая, как оказалось, у меня была. Я полемизировал со всеми любимыми классиками Евгетии.
Мария Морф была из тех замечательных девушек, к которым относишься солидарно, потому что она не твоя и потому, что она не твоя, то есть, не интересна.
Что выбор Михаила, что его критические обзоры – это совсем разные Михаилы. В жизни и быте он был прост. В статьях дерзок и независим. В отношении к девушкам жертвенен и покорен.
Вначале возмущались, что насильник и маньяк остается безнаказанным. Потом говорили о замечательных качествах жертвы, той же Марии. Какой она замечательный музыкант, отличница учебы, ученица храма Дмитрии. Тут и исповедальник не избежал публичности. Восхваляли целомудрие Марии. Убеждали в психозе маньяка. И тут – о бесчувствии и бездушности мужа, который, как трус, прячется у очередной любовницы, у друга-гея (это было, видимо, про меня, хоть и неправда, да что уж), у кого угодно, и даже не пытается выйти на связь с полицией. Борис Берия ждет явки Михаила Морфа в участок.