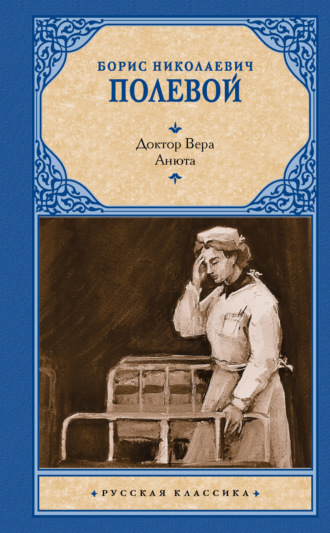
Полная версия
Доктор Вера. Анюта
Входная дверь терялась в темноте, и когда точно бы из нее выступила невысокая фигура, мне показалось, будто она возникла из-под земли. Четко виднелись лишь бинты на голове этого человека да странно поблескивали белками, точно бы источали свет, его глаза.
– Феня, принесите лампу, – распорядилась я.
– Не надо, зачем освещать мою запущенную внешность?
– Вы кто?
– Если я скажу, что медведь, вы все равно не поверите.
– А ты не охальничай, не охальничай, – зачастила тетя Феня, рассыпая слова, как горошек. – Просил начальника – вот тебе начальник, говори, что надо, и уходи с богом.
Старуха подняла свечу. Из тьмы выступило смуглое лицо, на три четверти заросшее молодой бородкой, густой и черной.
– Вы, тетенька, шаривари не затевайте. По личному вопросу мы вам слово дадим в конце. – И с силой, которую в этом невысоком человеке трудно было даже предполагать, незнакомец поднял тетю Феню под локти и отставил в сторону. От него веяло чем-то тревожным, настораживающим.
– Ранены? Переменить повязку?
– Успеется. – Он снизил голос. – Я не о себе. – Посмотрел на тетю Феню, театрально удивился: – Как, тетечка, вы еще здесь? А ну, погуляйте по воздуху, посчитайте звездочки, нам с начальником тэт-на-тэт потолковать надо.
У меня радостно всколыхнулось сердце. Наверно, он из-за реки, от наших.
– Тетя Феня, проведайте оперированного.
Все – и это ночное вторжение, и странная, вывихнутая какая-то речь незнакомца, и даже его лицо с плюшевой бородкой – все настораживало. Но старуха права, голому нечего бояться разбоя. Что может быть хуже того, что с нами уже произошло в это роковое шестнадцатое октября?
Я поставила перед незнакомцем табуретку.
– Садитесь.
– Комфорт для следующего раза. Это, так сказать, частный визит. – Он перешел на шепот: – Доктор, слушайте сюда. В одном месте лежит один человек. Он срочно нуждается в медицинской помощи.
Я рассердилась: «в одном месте», «один человек» – что это за иксы и игреки?
– Вы пришли в советский госпиталь и разговариваете с советским врачом.
– В городе, который, между прочим, временно занят немецко-фашистскими оккупантами, – насмешливо уточнил обладатель плюшевой бородки и продолжал своим противным, ёрническим тоном: – На меня ваше лечебное заведение произвело исключительно хорошее впечатление, и я, пожалуй, привезу сюда моего любимого дядюшку, Вера Николаевна.
– Вы меня знаете?
– У нас общие знакомые. – И посерьезнел: – Прошу приготовить через час коечку. И тихо, не надо сенсаций. Они не для этого сезона.
Он бесшумно исчез, будто растворился во тьме: ни дверь не стукнула, ни ступеньки не скрипнули.
Велела Фене приготовить койку.
– Должно быть, из циркачей, – сыпанула горошек слов тетя Феня. – Ишь ты – «шаривари». Это у них язык такой особенный. А ручищи железные. Поднял – и болтай ногами, как кукла. Вы его поостерегитесь. У моего брата двое из цирковых на квартире стояли – всем угодникам поклоны клал, чтобы только поскорее съехали… – И вдруг Феня, жалостно глядя на меня, вздохнула. – Эх, Вера Николаевна, Вера Николаевна, сколько на вас бед-то сразу свалилось…
– Разве только на меня? А остальные? А вы…
– Я что, меня, голубка моя, жизнь-то покатала-помотала, а вам-то с непривычки каково?
Мне «с непривычки»? Эх, тетя Феня, тетя Феня, добрая душа! Вас катало и мотало, а меня?.. Но все-таки надо же заснуть. Я обязана выспаться. Ведь теперь каждую минуту может начаться то страшное, чего я боюсь во сне и наяву…
Не хотелось будить ребят. Не раздеваясь, я прикорнула на коротком клеенчатом диванчике в отсеке, оборудованном под приемный покой. Закрыла поплотнее глаза, мечтая снова увидеть тебя во сне. Но ты не вернулся, и сон не пришел. Старуха, сама того не ведая, бросила горсть соли на рану, которая давно уже начала зарубцовываться, но, честно говоря, не зажила, а может быть, и никогда не заживет.
Эх, Семен, как же мне тебя не хватает! Как нужен мне ты, ты весь, твой ум, твоя твердость, твое знание людей, весь ты, крепкий, мускулистый, полный веселой, добродушной энергии!.. Мне нелегко живется. Говоря честно, среди забот и дел я иногда днями не вспоминаю тебя. А вот сейчас почему-то вдруг вспомнился и не идет из головы последний вечер, который мы провели вместе.
Помнишь, как это было? Они приехали за тобой, а ты неожиданно задержался на собрании на «Большевичке». Не застав, они извинились и что-то там бормотали, что зашли на минуточку, посоветоваться с тобой насчет организации каких-то там политкружков, что ли. Время было такое, что я сразу все поняла, и мне стоило большого труда сделать вид, что я поверила. Но мне удалось, и я последила из-за шторы, как их машина отошла от подъезда и скрылась за углом. Семен, ты ведь совсем не подготовил меня к этому, все свалилось мне на голову, как льдина, сорвавшаяся с крыши в оттепельный день. Когда в ту пору исчезал кто-нибудь из наших друзей по комсомолу, выросший в крупного работника, и я, чуть не плача, говорила тебе, что не могу поверить в вину того-то и того-то, ты, правда, отвернувшись или глядя себе под ноги, выдавливал: «Черт его знает, всякое случается. За Васькой я ничего не знаю. Но вон на процессах-то что открывается!» Или резко обрывал меня: «Ну что ты пристаешь? Зря не возьмут, а возьмут невинного – выпустят. Нечего психовать…» Ты до последнего дня верил или делал вид, что веришь в то, что все идет правильно, что кругом враги и их надо искоренять быстро и беспощадно. Впрочем, во сне ты иногда выкрикивал знакомые имена, и я не могла понять – с гневом или с болью.
И вот очередь дошла до тебя. Я это сразу поняла. Да и ты, как мне кажется, не слишком удивился, когда по соседскому телефону я отыскала тебя на «Большевичке» и стала просить, чтоб ты вернулся домой через черный ход. Ты так и сделал.
Как врезался в память этот вечер! Ты старался казаться спокойным. Пробовал даже шутить. Помнишь? «“Ехать так ехать”, – сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост». Ужасная шутка!.. Но тебе не удалось скрыть, что ты растерян и потрясен. Я оказалась даже деловитее. У меня был уже план.
– Вчерашнюю зарплату я не трогала, – сказала я. – Есть еще то, что мы отложили на путевки. Забирай все деньги и уезжай. Уезжай в Москву, там разберутся.
И помнишь, Семен, что ты мне ответил:
– Коммунист не может бежать от советских органов, даже если они в данную минуту в отношении его допускают ошибку. Перед партией я чист. Невиновному у нас нечего бояться.
Ты велел мне опустить шторы и спокойно, будто собираясь в командировку, стал всовывать в портфель белье, умывальные принадлежности, зубной порошок, пачки «Беломора». А я? Я не в силах была помогать. Смотрела и даже не плакала. Собрав портфель, ты сказал: «Давай присядем». Сели. Ты закурил было папиросу, но тут же, скомкав, отбросил ее. Прошел в детскую. Постоял над Сталькиной кроваткой, усмехнулся: «Вот курчавка, вся в тебя. Мамкина дочка!» А над кроватью Домки: «А вот этот уж мой. Ишь какой подосиновик!» И тут вздохнул. Это запомнилось потому, что вздыхать – это не в твоем характере. «А славный у нас парнишка растет!» И чуть спустя: «Ты им, пожалуй, скажи, что батька, мол, в спешную командировку на Дальний Восток уехал. А впрочем…» – и махнул рукой.
Потом подошел ко мне, взял за руки и, смотря в глаза, будто гипнотизируя, произнес:
– Вера, я большевик-ленинец. Я никогда и ни в чем не погрешил перед партией. Что бы тебе ни говорили, это так. – Помолчал. – И бате это передай… – Вздохнул. – Бедный старикан, рабочая косточка, вот переживать-то будет. – Потом упрямо, сердито встряхнул головой. – Разберутся… Рано или поздно во всем разберутся… Иначе не может быть. – И мне показалось, что ты улыбнулся. Да, да, улыбнулся, а может быть, эта улыбка, всегда жившая у тебя на губах, сама, непрошеная, вылезла на свет божий.
Я тогда испугалась этой улыбки. Испугалась и опять стала упрашивать тебя добраться до первой от города станции, сесть в поезд, уехать в Москву. Поступил же так Токарев, которого кто-то предупредил, что выписан ордер на его арест. Добрался до столицы, бросился в свой наркомат, и нарком отправил его в Ташкент, в длительную командировку.
– Сделай так. Сделай. Ну, ради меня, ради детей.
Ты даже рассердился.
– Секретарь горкома бежит от советских органов… Да как я тогда коммунистам в глаза смотреть буду? – Будто отрубил: – Нет. – И вдруг решил: – Вера, я сам пойду туда. Так будет правильно. Раз человек явился сам, это лучшее доказательство его невиновности… Ну, а в случае… Тогда пишите прямо Иосифу Виссарионовичу. Отвезите в Москву и сдайте в экспедицию в Кремле. – И встал. – Ну, я пошел.
До меня даже не сразу дошло, что это значит: «Я пошел», – а когда дошло, портфель выпал из рук и пачки с «Беломором» рассыпались по полу. Притворно сердито ты сказал: «Ну, вот, помогла, чем могла», – и с какой-то тягостной, преувеличенной старательностью принялся их собирать. Собрал, положил портфель на кресло, прижал меня к себе. Обнявшись, зашли мы еще раз в детскую, постояли над спящим Домкой. Ты сказал: «В нашу, никитинскую породу. И волосом и характером рыжий. Мой след на земле». Я прижалась, будто хотела слиться с тобой, раствориться в тебе, но тебя, такого всегда чуткого и отзывчивого на мою ласку, со мной уже не было. Ты мягко расцепил мои руки.
– Верка, помни, что я говорю: правда победит. Она все победит. – И потом – я это особенно хорошо помню – добавил: – Ты у меня хороший парень, Верка. Из хорошего теста. Жди. – Это были последние слова, с которыми ты скрылся за дверью.
Я бросилась к окну, но разглядеть тебя не смогла – во дворе было темно. Ты и запомнился таким, каким был в дверях, – твердый, верящий. Таким ты представляешься мне и сейчас, в этом душном подвале, на фоне литых бетонных сводов, на которых, будто листья древнего папоротника на каменном угле, отпечатались шершавые доски опалубки.
Ты видишь, Семен, я помню твой наказ и, вопреки всему страшному, что случилось и что сейчас творится в городе, надеюсь и жду. А как мне было нелегко, родной. Я ведь не знаю даже, дошел ли ты тогда сам или тебя взяли по дороге. Ту ночь я, конечно, не спала, а на заре разбудила ребят, сказала о внезапном твоем отъезде на Дальний Восток и повела к деду, в ваш никитинский домик. Петра Павловича я подняла с постели. Он сидел на крыльце, босой, в нательной расстегнутой рубахе, с редкими, рыжеватыми, всклокоченными волосами, с помятым со сна лицом. Слушая меня, он стругал какую-то щепку, будто бы весь уйдя в это занятие, и это меня злило. Ведь я говорила ему о сыне, о нашей страшной семейной беде. А он молчал. Его округлое, полное лицо ничего не выражало, кроме разве сосредоточенности на никчемном обстругивании какой-то никому не нужной щепки.
– Это дела партийные, Вера, – сказал он наконец, поднимая ее и стряхивая с колен кудрявую стружку. – Коммунисты в них и без нас с тобой разберутся. – Помолчал, посмотрел куда-то вверх, на прикрепленную к березе скворечню, где навстречу вернувшемуся скворцу-папе жадно гомонило в домике его потомство. – Сколько врагов-то сидит, может, кто нарочно Семеху и оговорил. Враг – он на все пускается. – Он бережно огладил оструганную щепочку своими короткими, поросшими рыжим пухом пальцами. Только теперь это была уже не щепка, а маленькая деревянная ложечка для соли или горчицы. И вдруг он яростно изломал эту ложечку. Помолчал, тяжело дыша. – Разберутся. Не такие клубки распутывали. Что внуков к нам привела, правильно. Пусть тут перебудут. Нечего им у тебя там… Татьяна за ними присмотрит, она свободная, в школе каникулы.
Где-то недалеко, совсем рядом, в утреннем нежном воздухе захрипел слабенький гудочек. Старик встрепенулся, оживился, будто даже обрадовался.
– Зовет. Пора. Пройди в дом, Татьяна тебя чаем напоит. Ей потихоньку про Семеху скажешь, а ребятам пока – ни-ни. Уехал, мол, батька надолго по партийной мобилизации, слышишь, Вера? Нет, не может быть, чтобы за ним что-нибудь было. Вернется.
Торопливо, деловито старик стал подниматься на крыльцо. Завод рядом. Между первым и вторым гудком полчаса. Я преградила ему дорогу.
– А Семен? Надо же что-то делать? Он говорил – письмо товарищу Сталину отвезти в Москву, сдать в Кремль.
Старик остановился в дверях.
– Что ж, у Иосифа Виссарионовича других дел, кроме нашей беды, нету? – И брюзгливо, как это он частенько изъясняется: – Что ж, в Верхневолжске и правда перевелась? Найдем, найдем правду… Оклеветали, оговорили его враги за то, что сердцем чист, партии предан. Яснее ясного.
Тяжело ступая босыми ногами, он скрылся в сенях. Я все еще стояла у крыльца, когда он вышел, уже в спецовке, надвинув на глаза свою кепочку с пуговкой, и я поразилась, как он вдруг постарел, как побледнели у него щеки и погасли глаза.
– В больницу свою придешь – сразу же в партком. И сообщи. Слышишь? – сказал он голосом, которому безуспешно старался придать бодрость. – Чтоб от тебя от самой узнали, понимаешь? Виноват там, не виноват – не рассуждай, взяли – и все. Партийная организация должна первой обо всем узнавать. Ну, бывай. – И ушел, как-то расслабленно подволакивая ноги.
А ребята, ничего не зная, шумели с Татьяной в доме. Ты же знаешь, как они любят свою молодую веселую тетку. И этот шум, смех и даже то, с какой охотой они согласились пожить у деда, не улучшило моего настроения. Признаюсь, Семен, после этого разговора невзлюбила я твоего папашу. Все будто бы у него правильно, и самообладание сохранил, и советы дал, и ребят приютил, но все не то, не то. Не этого я от него ждала. Вот Татьяна – другое дело. Усадила ребят завтракать, выбежала ко мне:
– Что там у вас, почему в такую рань? Что с батей? Сряжается на завод, и слезы текут. Спросила, в чем дело, – обругал предпоследним словом. Верочка, что?
Увела меня к себе в мезонинчик, и наплакались мы с ней вдоволь. И от этого мне вроде бы легче стало, и нервы в порядок пришли. А как они мне понадобились в тот день, мои нервы!
Тяжкий разговор в парткоме, вопрошающие взгляды хороших людей, моих товарищей, в которых сочувствие мешалось с настороженностью, эта невидимая, но очень ощутимая пленка, которая как бы сразу отделила меня от всего, в чем я продолжала жить. Я – та же и не та, прежняя и какая-то уже другая. Даже когда главный хирург Валентина Леопольдовна Громова, у которой мы с Дубиничем когда-то стажировали, высокая, костистая старуха с сизыми пальцами, изъеденными дезинфекциями, демонстративно пожала мне руку, с вызовом глядя на окружающих, и на всю ординаторскую провозгласила: «Вы, Вера, отличный хирург и прекрасный человек, и таким вы для меня и останетесь», – даже это резануло меня, ибо, вопреки словам, подтверждало, что и в ее глазах я уже не прежняя.
Ты исчез для нас. Исчез, будто умер, с той только разницей, что близкие знают, где могила умершего, могут прийти поплакать, повспоминать. Мы долго ничего не знали, и лишь потом Татьяна потихоньку передала мне конверт, надписанный незнакомым почерком, в который чья-то добрая рука вложила письмо на обертке махорочного пакета, то самое, что ты бросил из поезда.
Известие, что тебе как-то и с кем-то удалось послать письмо товарищу Сталину, возбудило новые надежды. Но дошло ли оно? Может быть, так же застряло, как и те, что посылала я. Но надежда не угасла. Сколько он получает таких писем? При его занятости скоро ли дойдет очередь до наших. Надежда живет. И знаешь, Семен, о чем я сейчас подумала: вот тебя реабилитируют, ты вернешься в родные края, отыщешь где-то в эвакуации отца, Татьяну, и они тебе вдруг скажут: «А Вера-то с детьми осталась у немцев». Представляю, как тебя это потрясет. Но ведь ты же не поверишь, что я осталась нарочно? Ведь нет? Я же не верю в твою вину…
Помнишь, как-то мы с тобой ездили к Домке в пионерский лагерь. Пошли собирать голубику, забрались в болото, и нас накрыл туман. Мы заплутались и бродили до вечера. Выбившись из сил, я висела у тебя на руке, еле переставляя ноги. Мне все казалось, что мы просто кружим по лесу. Но ты авторитетно говорил: «Ничего подобного», – и уверял, будто в этой сырой, белесой, сочащейся влагой мгле видишь на небе какую-то звезду. Ты шел на нее, на эту звезду, и вел меня. Мы выбрались на дорогу, и лагерь оказался совсем недалеко. Тогда я эту звезду так и не разглядела. А теперь вижу ее во мраке.
Вокруг много людей. У меня есть друзья. Но ближе тебя никого нет. И вот стало привычкой мысленно беседовать с тобою. Вырвется свободная минута – и я как бы пишу тебе письмо, рассказываю обо всем, что меня занимает, радует, гнетет, ищу твоего сочувствия, совета. Не думай, родной, что я забываю, что с тобою и где ты. Ты всегда со мной, все время во мне. И вот сейчас, когда мне, наверное, даже тяжелее, чем тебе, мне нужны твой опыт, твое мужество, твоя помощь. Мысленно писать тебе каждый день письма я приучилась давно. Теперь я буду обращаться к тебе за поддержкой и советом.
Ах, если бы ты знал, как мне тяжело и как мне тебя не хватает вот здесь, у нас, в наших подземных норах, в городе, по которому – ведь это подумать только – ходят фашисты. От одной мысли этой можно сойти с ума. Но мне нельзя сходить с ума. Я не имею на это права. У меня на руках столько больных и раненых.
5
Нет, больше не уснуть. Ну, а если не спать, лучше что-то делать. Обитатели наших подземелий, как это ни странно, после всех переживаний спят. Даже Василек перестал стонать, а мать его так и уснула, сидя на полу и положив голову на его койку.
Вместо трех медицинских постов, какие у нас были позавчера, сейчас один. На дежурстве Мария Григорьевна. Она сидит возле раскаленной печки-времянки и скатывает старые бинты, которые днем успела-таки выстирать, прокипятить и высушить. Ее хмурое лицо резко озарено светом раскаленной печки. Оно кажется даже не бледным, а зеленоватым. Такие лица у текстильщиц, долго работавших в отбельном цехе, и румянец на них пробивается разве что в праздник после одной-двух рюмок. И в самом деле, наша Мария Григорьевна Фельдъегерева проработала в отбельной «Большевички» с самой революции. В позапрошлом году фабричный треугольник торжественно проводил ее на пенсию. Но хотя квартира Фельдъегеревых полна внуков, дома она не усидела. Сразу же по объявлению войны пошла на курсы сестер Красного Креста, окончила их, как раз когда начались бомбежки и мы стали формировать свою больницу для жертв воздушных налетов.
Дубинич не хотел было ее брать, во-первых, из-за возраста и, во-вторых, потому, что искренне полагал, что внешность женского медперсонала должна радовать глаз больных и что это тоже немаловажный лечебный фактор. Внешность Марии Григорьевны глаз явно не радует. Но пожилая, невзрачная женщина добилась, чтобы ее зачислили временно на место сестры-хозяйки. Задолго до конца испытательного срока она стала хозяйкой не по должности, а по существу, и хозяйкой рачительной, придирчивой, во все вникающей, все умеющей, грозой нерях, болтушек и, как у нас говорят, «трепачей».
Признаюсь, и я поначалу побаивалась ее глухого голоса, требовательных глаз, всегда поджатых губ. А вот сейчас вижу над ворохом бинтов ее грубоватый, высвеченный неярким огнем профиль, и оттого, что она рядом, мне становится как-то покойнее, хотя ни на минуту не могу забыть, что по улицам нашим ходят гитлеровцы.
Присаживаюсь к ее столику.
– Ну как?
– Тихо. Как смену от Федосьи приняла, никто ни разу и не покричал. Васятка вон и тот спит… Вы уж, Вера Николаевна, на матку его, на Зинку-то эту, не сердитесь. Вовсе ошалела баба от горя. Безмужняя она, всего и свету в окне – парнишка. – Вздохнула, помолчала. – Что, сон не идет? Ну, так скатывайте вон бинты, чего попусту сидеть.
Беру бинт. Расправляю. Начинаю скатывать.
– Вам тетя Феня говорила: тут парень какой-то заросший приходил… Как вы думаете, о ком он заботится?
– Доставит – узнаем, чего зря голову ломать. Катайте, катайте бинты, это ведь как семечки грызть…
И действительно, однообразное занятие это успокоило. Даже самая страшная мысль, которая, как азотная кислота, разъедает мне душу, мысль о том, что я, жена человека, осужденного по таким статьям, вместе с детьми оказалась у немцев, даже эта мысль тускнеет и притупляется.
– Подсчитала я тут харчи наши. Маловато. На теперешний состав от силы недели на три хватит, – размышляет вслух Мария Григорьевна. А руки работают, работают. Работают, как умные, ловкие механизмы, действующие сами по себе. – Что делать станем?.. К гитлеровцам за харчами не сунешься? Нет. Стало быть, самим добывать… Где? Знать бы точно, когда там наши соберутся с силами и дадут им по шее. И дадут ли, прежде чем нас голодуха за горло схватит… Ведь далеко не ушли. На Волге уперлись. Слышите их разговор?
Действительно, из-за реки глухо доносилась отдаленная канонада. Мария Григорьевна не утешает, нет. Просто раздумывает вслух. И как мне дороги это ее спокойствие, ее исполненное веры «дадут по шее». В этом она не сомневается. И в том, что скоро дадут, не сомневается тоже. Даже вон продукты хочет рассчитать… Но, в самом деле, как же быть с продуктами, медикаментами, инструментами? Кто нас снабдит? Каюсь, в горячке страшных этих событий я даже и не подумала об этом. А эта женщина, оказывается, уже и позаботилась.
– Ну, с бельем мы пока выйдем, – продолжает Мария Григорьевна. – Тут мы с Федосьей вечером в развалинах до кастелянской ходок отыскали. Цело белье, хоть водой и плесенью тронуто. Посмотрели – сойдет, если проветрить и высушить. Вот только помногу вешать сразу нельзя. Как раз немца приманишь. Он, говорят, до барахла, ух, жаден. Придется помаленьку. Но с бельем не беспокойтесь, с бельем обойдемся, а вот харчи…
Закатала бинт, отложила в аккуратную стопку. Взялась за другой. За этим нехитрым делом я позабыла даже и о немцах, и о незваном госте с плюшевой бородкой. Катаем бинты и обсуждаем дела, будто на утренней врачебной летучке. У меня ведь не меньше проблем: на шестьдесят раненых один врач, две сестры, из которых одна хозяйка, а другая всего-навсего хирургическая няня… Вместо трех – единственный санитарный пост.
– Это тоже большой вопрос, – соглашается Мария Григорьевна. – Однако это дело обходимое. Я, может, вы слышали, вдовой за вдовца вышла. У него трое мальцов, у меня одна девчонка. Четверо. Двоих вместе народили – шестеро… Семья. Сам работал, и я работала. У нас так дело было налажено – старшие за младшими ходили, стирать, стряпать, штопать мне помогали. И вот всех подняла. Сейчас двое в пехоте, один летчик, а дочка санинструктор в санбате, все воюют, а младшие с дедом в эвакуации. Насчет людей, Вера Николаевна, не бойтесь, в большой семье один одному помогает. Ходячие вон и сейчас уголь носят, печки топят, столярничают, тетки, что покрепче, посуду моют, кухарят. У нас основной вопрос какой? Автоклав – в тазах много ли накипятишь?.. Все думаю: а ведь тут, под развалинами, где-то четыре лежат. Красавцы. Неужели ни один не уцелел? Вот все мечтаю: откопать бы да и к нашим печам приспособить. А?
Она катает свой бинт, а я свой. Продукты, штаты, автоклав… Неужели она уже свыклась с тем, что город оккупирован?
– Вот вы давеча в палате сказали: «Немцы люди». Вы в это верите?
– Не звери ж. Были ж давеча… Я вот прикинула: какой расчет им нас обижать – хворые, калечные, к чему их убивать? Сами помрем. Однако, – собеседница понижает голос и вместе с бинтами приближается ко мне, – однако тех, кто командиры и политсостав, надобно нам остричь. Форму-то их, вы уж извините, Вера Николаевна, без вашего разрешения, пока вы Васятку оперировали, мы тут сожгли.
– Как сожгли? – чуть не вскрикиваю я.
– В печах, – спокойно отвечает собеседница. – А ну как немец догадается, что у нас тут половина солдаты, да еще ком- и политсостав… Другой разговор с нами поведет. Вот тут уж, верно, нам несдобровать.
– А как же мы их оденем, когда поправятся?
– Тут, как Федосья наша говорит, бог даст день, бог даст и хлеб… Что-нибудь придумаем… Люди помогут.
– Какие люди?
– Как какие? Наши же, советские.
Все это произносится так обдуманно, что и у меня появляется надежда: все действительно преодолимо.
– Вы просто золото, Мария Григорьевна.
– Самоварное, – без улыбки поправляет она.
– Все вы знаете, все умеете.
– Вам бы, Вера Николаевна, мою жизнь прожить, с шестью детьми да с мужем, которого в получку от пивной хоть паровозом оттаскивай, тоже научились бы сметану из камня выжимать. Федосья вон говорит: «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет». Споем и мы нашу песню… Прилегли бы вы малость. После бинтов небось уж и в сон клонит.
Я иду в свой угол, но лечь не удается. У входа шум, осторожные шаги, приглушенные голоса. Как-то уж механически спешу навстречу этому шуму. Мария Григорьевна опередила меня и, оказавшись первой у входа, поднимает ацетиленовую лампу.
– Тише вы! Спят же люди.
6
Первым в проеме двери появляется наш знакомый с плюшевой бородкой. В паре с высокой, крупной теткой, закутанной в темный платок, он тащит носилки. Кто на них – не видно. Он закрыт с головой пестрым стеганым одеялом, искусством набирать которые из разноцветных лоскутков славятся старые текстильщицы. Из-под одеяла видны ноги в растоптанных валенках с толстыми подошвами. Все – и носилки и люди – густо облеплены мягким снегом.














