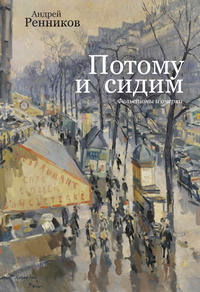Полная версия
Под теми же звездами
– Вы, наверно, не переживали сильных ударов… – проговорила задумчиво Нина Алексеевна, – иначе и вы бы…
Она смутилась, так как Кедрович, не дожидаясь заключения ее слов, весело расхохотался.
– Простите меня, – сказал он, принимая сконфуженный вид, – но я, право, не мог удержаться. Неужели вы думаете, что ваши удары сильнее и многочисленнее тех, которые приходилось испытывать мне? Не сердитесь, ради Бога, – поспешно добавил он, видя, что Нина Алексеевна молча опустила голову, – я ведь это смеюсь из расположения к вам. Подумайте – у вас ведь впереди всё. Вы так молоды! Вы можете еще найти в жизни столько интересного! Не сердитесь – я значительно старше вас, и мне смешно видеть в ваши годы разочарование жизнью.
Он ласково посмотрел на Нину Алексеевну. Та застенчиво улыбалась, опустив глаза, и затем, бросив на Кедровича смущенный взгляд, проговорила:
– Если бы люди внушали мне доверие, то я иначе смотрела бы на жизнь. Но мне приходилось так часто ошибаться. Я всегда была откровенной и искренней – и получала вместо этого непонимание и пошлость. По-моему, одиночество – вот единственное, что может дать утешение от житейских ударов и разочарования в людях.
Кедрович снисходительно улыбнулся.
– Нет, одиночество – это явление антиобщественное, – проговорил он, – это убегание от жизни – явное признание себя побежденным. А разве может быть приятным состояние побежденного? Нет! В ваши годы нужно быть победителем, нужно высоко держать голову, прямо, нужно бросать вызов жизни – вот в чем истинная красота! Возьмем, например, мою жизнь: я уже с юношеских лет вступил на самостоятельную дорогу – и я помню – жажда жизни не покидала меня ни на минуту. Мой отец был богатым помещиком, но когда он узнал, что из гимназии я хочу поступить в высшее учебное заведение, то наотрез отказался помогать мне. И я шел один, без поддержки. Я стал писать в маленькой провинциальной газете и постепенно начал выдвигаться. Меня заметили в Петербурге. «Новое Время», «Биржевые Ведомости» и другие газеты наперерыв звали меня, старались отбить меня друг у друга. Но я отказался: я решил издавать сам свою газету. Отец в это время как раз умер и оставил мне состояние в триста тысяч и три имения – в Бессарабии, в Сибири и в Центральной России. Я тогда твердо решил осуществить заветную мечту – иметь свою газету. И чтобы лучше ознакомиться с издательским делом, я отправился путешествовать по Европе, чтобы присматриваться к газетам во Франции, в Германии, в Англии. Ах, как это было интересно! С редактором Times’a я очень близко сошелся; меня просили даже писать туда корреспонденции из Петербурга, за что предлагали тысячу рублей в месяц и, кроме того, на разъезды. Вы не можете себе представить, какая громадная и какая осведомленная газета эта – Times! Завязав там сношения, я отправился в Париж. Ах, эта площадь Согласия, эта Notre Dame de Paris!.. Но не в этом дело. Я побывал во всех редакциях – Figaro, Temps, Matin – все раскрыли передо мной двери, когда я объявил о цели своего приезда. Редактор Matin заявил мне, что читал мои статьи в петербургских газетах и заинтересовал ими Леруа Болье, который очень был рад познакомиться со мною. В Париже я провел лучшее время своей жизни. Какие знакомства, какие связи, как все любезны! Как приветливы эти французы! Зато я истратился там, представьте: – в три месяца спустил в одном Париже целых пятьдесят тысяч! Не удивительно поэтому, что, когда я вернулся в Петербург, у меня оставалось из трехсот тысяч всего-на-всего тридцать пять. И я начал на эти деньги газету, конечно, небольшую, но приличную. И до последней весны всё шло хорошо; но вот петербургский градоначальник, который боялся влияния моих статей на общество, добился своего – меня выслали на год, и всё мое дело рухнуло. А между тем, вы видите, – я бодр, весел, здоров, я шучу. А разве это не удар? И разве не сильный удар, как вы думаете? Берите же с меня пример, приободритесь, возьмите себя в. руки, и всё будет отлично.
Кедрович затянулся сигарой и самодовольно посмотрел на Нину Алексеевну. Та, подняв голову, восторженным взглядом смотрела на своего собеседника, и когда последний кончил свой рассказ, невольно воскликнула:
– Ах, как интересна ваша жизнь!.. Как я вам завидую!
– Завидуете? Ха-ха-ха! – засмеялся Кедрович, – не нужно завидовать, Нина Алексеевна, а необходимо только взять пример с меня. Хотите, я заставлю вас развеселиться, поверить в жизнь, в людей, в судьбу? А? Согласитесь, только на мои условия – и я ручаюсь, что всё будет отлично.
– Но, как же это? – удивленно проговорила Нина Алексеевна. – Что мне предпринять?
– А, вот, слушайтесь меня: я вас познакомлю с писателями, с художниками, артистами; хотите – мы пойдем на выставку картин импрессионистов, в литературно-артистический клуб, в театры… Вы увидите целый мир, которого не дадут вам ни книги, ни ваши курсы, ни то уединение, о котором вы так мечтаете. Ну, как же? Согласны?
– Отчего же… Хорошо… – проговорила задумчиво Нина Алексеевна. – Я могу попробовать. – И она улыбнулась, добавив шутливо:
– Все равно, ведь, хуже не будет!
Они оживленно беседовали после этого еще около часа.
XIV
Кедрович не забыл своего обещания развлечь Нину Алексеевну. В один из ближайших праздничных дней он зашел за ней и предложил отправиться вместе на выставку картин русских импрессионистов. Выставка открылась несколько недель тому назад, и газеты в начале усиленно кричали о ней; – Нина Алексеевна до сих пор не собралась побывать у импрессионистов и потому была очень рада воспользоваться приглашением Михаила Львовича. Она читала кое-что о недавнем споре Бенуа с Репиным относительно нового искусства, знала о столкновении новых художников с представителями старого академизма; и поэтому ей было особенно интересно проверить на выставке свои собственные впечатления об этой сложной и запутанной борьбе новых начал со старыми.
Выставка картин импрессионистов привлекала всеобщее внимание в городе. Конечно, этому вниманию способствовало не столько само искусство, сколько газетные заметки, письма в редакцию, объявления и плакаты, вывешенные по городу в огромном количестве; далее, газеты, как и всегда во всех вопросах, – начали горячо перебраниваться и спорить о том, является ли импрессионизм шагом назад или шагом вперед; и в этой жаркой полемике, в которой газеты Веснушкина и Каценельсона принимали наиболее деятельное участие, аргументацией за или против нового искусства не стеснялись; фельетонисты «Свежих Известий» указывали на то, что их противники из враждебного лагеря совершенные дети в понимании живописи и делают крупнейшую ошибку, вообще выступая в подобном трудном споре, выставляя тем самым напоказ свое глубокое невежество; фельетонисты «Набата» стояли за старое искусство и кричали, что фельетонисты «Свежих Известий» только делают вид, что понимают что-нибудь в картинах импрессионистов: на самом же деле, как уверял «Набат», эти защитники импрессионизма в лучшем случае круглые профаны, которых легко убедить в чем угодно. На это тяжелое обвинение негодующие фельетонисты «Свежих Известий» горячо отвечали, что в сущности весь спор происходит вовсе не от того, что новое искусство спорно и неприемлемо, а главным образом оттого, что все его противники или просто идиоты, или в крайнем случае безвредные дураки и кретины. При таком положении вещей газета Каценельсона считала затруднительным вести какую-либо полемику с противниками импрессионизма и делала это вовремя, так как газета Веснушкина, выйдя в своих аргументах из сферы чистого искусства, стала опять напоминать Каценельсону про интендантские поставки и про прошлую маклерскую деятельность, когда Каценельсон исключительно занимался подрядами и не подозревал о нарождавшемся модернизме в искусстве и литературе. Спор о живописи перешел таким образом на другую, более общую почву – на вопрос о том, кто в сущности подозрительнее и невежественнее: сотрудники ли «Набата» или сотрудники «Свежих Известий». Здесь принципиальная полемика расцвела пышным цветом и попутно выяснила все: кто из сотрудников обеих газет пьет, кто любит дамское общество, кого, когда, где, и за что били, кто с кем живет и у кого бывает. В общем, город со времени русско-японской войны никогда не видел такого подъема духа в своих органах печати, и читатели нарасхват покупали газеты, ожидая каждый день раскрытия новых горизонтов в искусстве и нового освещения фактов из интимной жизни издателей.
Устроителям выставки, конечно, ничего другого не было нужно. Казалось, что достаточно только широко раскрыть двери выставочного помещения, чтобы с успехом собрать с обывателей десятки тысяч полтинников. И в начале, в первые несколько дней, так и было: удивленная, встревоженная толпа валила на выставку, пугливо оглядываясь по сторонам, посматривая со страхом на стены с висевшими произведениями нового искусства, – и уходила назад, почесывая переносицу или затылок. Некоторые, более скупые, ругались, некоторые, более легкомысленные, хохотали; но в общем через неделю выставка вдруг стала пустовать, и устроители с тревогой подумывали о своем будущем. К этому времени и постепенно окончился и спор в газетах; фельетонисты устали уже полемизировать и перешли к своим очередным делам; и только копеечные газеты, подогреваемые то ужинами издателей с устроителями выставки, то некоторыми незначительными благотворительными суммами, взятыми для типографских рабочих, которым нечего было есть, – только эти газетки четвертую неделю продолжали дебатировать вопросы об импрессионизме вообще и о существующей выставке в частности. Но финансовые обстоятельства делались всё хуже и хуже – и устроителям нужно было в конце концов решиться на что-нибудь.
Кедрович зашел за Ниной Алексеевной уже в такое время, когда дела выставки были плохи; кроме того, что Кедровичу просто хотелось провести время с нравившейся ему девушкой, кроме этого ему нужно было пойти на выставку и по делу: один из художников-импрессионистов на-днях просил его от имени главного устроителя зайти в ближайшее воскресенье на выставку переговорить об отношении «Набата» к новому искусству. Кедрович ясно чувствовал, что разговор этот будет деловой, и потому охотно обещал зайти в воскресенье к определенному часу.
– Вы еще ни разу не ходили на выставку? – спросил Нину Алексеевну Кедрович, когда они вышли вместе из квартиры на улицу.
– Нет, не пришлось, – отвечала Зорина, немного смутившись, – я, видите ли, очень хотела, но всё откладывала. А затем, мне столько говорили ужасного про выставку… Скажите, как, по-вашему, это всё действительно шарлатанство? – вопросительно и с некоторым уважением в голосе обратилась она к Кедровичу, который изящной ровной походкой шел рядом с ней, слегка изогнувшись в ее сторону.
Кедрович снисходительно улыбнулся.
– Как бы вам сказать, – уклончиво ответил он, – идея импрессионизма, пожалуй, верна, но от идеи далеко еще до выполнения. И, кроме того, художники так всегда склонны преувеличивать всё… Да, вот, вы увидите сами, – добавил Кедрович смеясь, – в общем, вы найдете много очень и очень курьезного.
Они подходили уже к выставочному зданию. Около входа на фасаде красовались многочисленные пестрые плакаты, на которых крупными буквами было написано: «Художественная выставка Свет и Тени». Над парадной дверью, ведущей внутрь, висело большое полотно с изображением чего-то мало поддающегося обычному толкованию. Сначала казалось, будто картина эта символизировала задачи выставки, так как исходивший из центра картины ярко красный свет шел лучами во все стороны, встречая на своем пути не то каких-то скорчившихся в страшных конвульсиях гадов, не то сухие ветви застывших деревьев; но, к сожалению, при более внимательном исследовании указанного произведения, можно было заметить такие штрихи и мазки, которые делали несомненным уже другое предположение, а именно: – картина должна была изображать фантастическую женщину с протянутыми вперед руками, с длинным уходящим куда-то далеко платьем, с распущенными красно-рыжими волосами, в которых заплетены были цветы, глыбы камня, стволы деревьев и мелкие пни. Картина была довольно сильная, полная символики, намеков и чего-то таинственно-неудовлетворенного. И поэтому Нина Алексеевна была сильно удивлена, когда на вопрос Кедровича о том, что должна изображать указанная картина, сидевший у входной кассы устроитель выставки предупредительно ответил:
– А это «Морское дно». Картина талантливого начинающего художника Кончикова.
В это время к Михаилу Львовичу подскочил уже ожидавший его у входа главный устроитель выставки, – Бердичевский. Последний поздоровался любезно с Кедровичем и весело проговорил:
– Вы спрашиваете про картину Кончикова? О, это чудное полотно, изображающее весну! Что вы говорите, Антон Ефимович? – сердито обернулся Бердичевский к кассиру, который тянул его за рукав и что-то шептал, – Морское дно? Ага, так это всё равно: у Кончикова есть и «Морское дно» и «Весна».
– А вам, что, наверно не нравится? – улыбнулся он, заискивающе поглядывая на Кедровича.
– Да, я уже писал о выставке, – засмеялся Михаил Львович, – вы это, должно быть, хорошо помните.
Устроитель выставки преувеличенно вздохнул и грустно усмехнулся.
– Ах, как не помнить! – проговорил он, – вы всё время нас так браните, просто жалости в вас никакой нет, ей-Богу.
– Что же делать, когда я несогласен с новым направлением? – важно заметил Кедрович. – Не могу же я кривить совестью: журналист должен открыто и прямо говорить то, что думает.
– Я это знаю, господин Кедрович, я это знаю, – воскликнул устроитель выставки, – но разве вы можете сказать, что в споре между старым и новым искусством вы именно правы? Ох, Боже мой! Ну, а если мы правы, а не вы? Что тогда?
– Humanum errare est[18], – ответил Кедрович, – я не говорю, что не могу ошибиться. Может быть, если бы вы развили мой вкус, научили бы смотреть на ваши картины своими глазами, – может быть тогда бы я и изменил свой взгляд. Но это вам трудно было бы сделать, неправда ли?
Михаил Львович многозначительно поглядел на Бердичевского. Тот лукаво встретил этот взгляд, криво усмехнулся и ответил:
– Я бы всё сделал, господин Кедрович, чтобы направить вас на путь истинный. Но разве я в силах? Вам нужно тысячу лет, чтобы разубедиться в своем взгляде. Неправда ли?
Бердичевский в свою очередь многозначительно поглядел на Кедровича. Тот весело рассмеялся и фамильярно ударил по плечу своего собеседника.
– Нет, вы уж преувеличиваете, господин Бердичевский, – заметил он, – мне кажется, двести лет будет вполне довольно.
Он сделал ударение на слове «двести». Нина Алексеевна, стоявшая рядом с Кедровичем и молча слушавшая весь разговор, при последних словах рассмеялась. Кедрович же, увлеченный до сих пор беседой с устроителем выставки, вспомнил, что заставил долго ждать свою спутницу, извинился перед ней, и они оба отправились в первый зал смотреть картины.
По случаю воскресного дня в залах и коридорах было довольно много народу; преобладала молодежь средних и высших учебных заведений;
студенты и курсистки относились к развешанным полотнам с особенным доверием; некоторые подолгу стояли около каждой картины с полураскрытым ртом, обнаруживая удивление, смешанное с уважением, и старались проникнуть в самую сущность идеи художника; некоторые то отходили от картины, то снова подходили, то становились справа, то слева, и наконец, ничего не разобрав, подступали с благоговением вплотную к полотну, трогали его пальцем и рассматривали вблизи жирные застывшие мазки краски, образовавшие на полотне высокие гряды, пересеченные глубокими бороздами.
В одном углу около большой символической картины стояла группа чиновников с дамами и громко хохотала. Чей-то голос говорил:
– Ей-Богу, Зинаида Андреевна, это луг. А на лугу дельфины. Поверьте мне, опытному человеку!
Новый взрыв хохота прервал слова говорившего.
– Дельфины? На лугу? Это недурно, хо-хо-хо!
– Господа! Я знаю, что это. Господа, это шпинат с луком, честное слово!
– Хорошо, если шпинат, – возразил тревожно третий голос, – ну, а если это опять ноктюрн? Что тогда? Иван Алексеевич, будьте добры, посмотрите, что сказано в каталоге?
– В каталоге? Какой номер, 96? Ага, вот: «Дорога на Олимп».
– Дорога на Олимп? Послушайте, Иван Алексеевич, да ведь Дорога на Олимп уже была! Вот эта, верхняя.
– Рассказывайте! А номер 96?
– Да ведь этот номер относится к верхней картине, а не к нижней. У этой картины номер внизу. 53-ий!
– Ага. Ну, так 53-ий… 53-ий… Это «Сон в летнюю ночь».
– Жулики они, вот что, – выбранился вдруг вблизи компании какой-то полковник. – Какой это еще сон ему, каналье, там приснился? Мошенник этакий, негодяй!
Нина Алексеевна с любопытством осматривала картины, медленно переходя от одной к другой. Кедрович рассеянно поглядывал вместе с ней на стены, шутил над некоторыми полотнами, то высказывая предположения относительно вменяемости автора, то уверяя свою спутницу, что при некотором напряжении воображения она может увидеть красный цвет там, где художник умышленно положил зеленый. И материала для подобного напряжения воображения было достаточно; перед Ниной Алексеевной прошли портреты, изображавшие какие-то ярко-желтые физиономии с зеленоватыми носами, над которыми задумчиво глядели в разные стороны таинственно-бурые глаза; это были большею частью, как гласил каталог, матери, сестры и братья художников, образуя на стене красноречивую картину среды, из которой произошел и в которой жил и работал сам портретист. Но не только портретисты заслуживали внимания и удивления; пейзажисты также старались не ударить лицом в грязь и прилагали не мало старания, чтобы сделаться из ряда вон выходящими художниками; но так как всех пейзажистов было на выставке не менее сорока, и так как каждый из них одинаково хотел выдвинуться из общего ряда вперед, то в сущности выдвинулись вперед все сорок талантов и, таким образом, ни один из них не оказался ни лучше, ни хуже: все были одинаково непонятны и странны в своих пестрых, ярких, удивительных произведениях.
Осмотрев первый зал, Нина Алексеевна в сопровождении Кедровича направилась во вторую комнату, причем Кедрович шел следом за нею. В это время сзади раздался голос Бердичевского, который оживленно кричал:
– Господин Кедрович, господин Кедрович! Вы потеряли, смотрите!
Бердичевский подошел ближе и протянул Кедровичу руку с новым кожаным бумажником.
– Какой вы рассеянный! – деланно смеясь, воскликнул Бердичевский, держа руку с бумажником протянутой вперед, – хорошо, что я заметил! Вы чуть не потеряли его.
Он многозначительно взглянул в глаза Кедровичу. Тот весело, но со спокойным видом принял бумажник и ответил:
– Ах, очень вам благодарен, очень! И как это я мог его потерять? А ну, не успел ли кто-нибудь стянуть оттуда денег? Посмотрим.
Кедрович повертел бумажник в руке, не зная, как его открыть с внутренней стороны. Устроитель выставки подскочил к нему, надавил какую-то кнопку и, улыбаясь, проговорил:
– Наверно кто-нибудь уже испортил затвор, что он так трудно открывается.
– Гм… здесь сто восемьдесят рублей всего? – вопросительно поглядел Кедрович на слегка смутившегося Бердичевского. – А у меня было ровно двести. Это странно!
– В самом деле? – засмеялся Бердичевский, – ну, не беда! Хорошо, что я нашел бумажник и с этими деньгами. А то, вы знаете, могло уже ничего не быть в нем. А? Как вы думаете? Хо-хо!
– Ну, нечего делать, – кивнул головой Кедрович, шутливо и в то же время укоризненно глядя на устроителя выставки, – и за это вам очень благодарен. Спасибо, большое спасибо. Вы, может быть, пройдетесь с нами, покажете некоторые лучшие картины? – ласково добавил он Бердичевскому, – может быть вы кстати и объясните нам, профанам, как понимать ваше искусство? Позвольте вас познакомить, – обратился он к Нине Алексеевне, – господин Бердичевский, главный организатор всего этого дела.
Они отправились втроем. Бердичевский часто останавливал своих спутников около каких-нибудь полотен и напыщенно произносил:
– Неправда ли, красочно? Неправда ли, с настроением? Посмотрите, какая гармония тонов! А, вот, поглядите на это: здесь совершенно-таки отсутствует линия. «Одни краски» – таков девиз этого молодого художника.
Кедрович благосклонно выслушивал Бердичевского, задавал ему вопросы и записывал что-то в свою записную книжку. Около тех полотен, которые особенно расхваливал Бердичевский, Кедрович останавливался, внимательно вглядывался в картину и, обращаясь к Нине Алексеевне, говорил:
– Вот видите, что значит мы ходим с опытным проводником. Ведь я бы так и не обратил внимания на то, что эта картина, например, написана специально для дополнительных цветов; а теперь мы знаем цель художника. По-моему, это очень оригинально, неправда ли?
Нина Алексеевна сделала неопределенное лицо и, улыбаясь, заметила:
– Вы, как видно, уже склоняетесь в сторону импрессионизма? Ведь вы полчаса тому назад так…
– Ах, мадемуазель! – вдруг горячо прервал Нину Алексеевну Бердичевский, – разве умный человек может долго быть анти-импрессионистом? Я-таки вам скажу, что мы все в душе импрессионисты, только мы этого не замечаем. Вы посмотрите на краски: это один восторг, а не краски! Это целая симфония. Всё зависит, я вам скажу, от привычки – вы привыкли к этому старому вырисовыванию академизма, ну вам и странно. Ведь господин Кедрович тоже раньше был такой противник новой живописи, ой-ой, не приведи Бог! Ну, а теперь он, слава Богу, немного начинает-таки понимать смысл импрессионизма. Не так я говорю, господин Кедрович?
Кедрович рассмеялся.
– Пожалуй, отчасти вы правы, – ответил он, – я прежде просто принципиально отрицал импрессионизм. Однако, это, как я вижу при внимательном отношении к выставке, не мешает некоторым художникам быть талантливыми. Например, Андуревич: он очень и очень оригинален.
– А Берейтерман? – перебил Кедровича Бердичевский. – Что вы скажете про Берейтермана, а?
– И он, по-моему, обещает много, если только удержится от излишних крайностей.
– О, он всех заткнет за пояс! А Шпиговский? А Кун? А Кончиков? Хе-хе! Это всё таланты, я вам скажу.
Бердичевский продолжал водить за собой Кедровича с Ниной Алексеевной и без умолку говорил о достоинствах художников и картин, представленных на его выставке. Кедрович шел за Бердичевским, слушал его и, кивая головой, записывал. Затем, когда в последнем зале Михаил Львович отметил те картины, про которые ему говорил Бердичевский, последний, обращаясь с приторной улыбкой к Нине Алексеевне, спросил:
– Вы мне разрешите на две минутки отнять у вас вашего кавалера? Мне хотелось бы познакомить его с одним художником, который нас ждет.
Нина Алексеевна поспешила согласиться и уговорилась с Кедровичем ждать его в одной из последних зал. Бердичевский, расшаркиваясь, поблагодарил Зорину и быстро увлек Кедровича за собой.
– Послушайте, это неблаговидно с вашей стороны, – говорил по дороге Кедрович, – я ведь сказал вам, что двести, а вы подбрасываете мне сто восемьдесят да еще при таких условиях, когда я не могу ничего возразить.
– Ох, господин Кедрович, войдите в наше положение, – отвечал, оправдываясь, Бердичевский, – мы прямо с голода издыхаем! И потом, бумажник новый, вы не считаете бумажник? А он таки стоит денег, он десять рублей стоит, я вам скажу.
– Ну, и десять, – усмехнулся Кедрович, – четыре рубля не больше. И потом, на кой черт, спрашивается, мне ваш бумажник, когда у меня есть свой?
– Ох, ох, он не дает мне говорить! – воскликнул Бердичевский, размахивая руками и поглядывая по сторонам, чтобы никто не услышал их беседы, – ну, стоит нам, идейным людям, говорить о таких пустяках? Вот послушайте, господин Кедрович, – вкрадчиво начал Бердичевский, взяв собеседника за пуговицу пиджака и не отрывая от нее своей руки, – вот я вас попрошу об одном одолжении. Только, чур, это между нами, господин Кедрович. Я вам доверяю, как журналисту, я надеюсь, вы поймете меня, в самом деле. Кроме того, что вы напишете теперь про талантливость моих художников, кроме этого я попрошу вас еще об одном одолжении: поднять шум по поводу скандала, который назначен у нас на два часа дня. Пожалуйста поддержите нас, господин Кедрович! Мы уже имеем поддержку «Свежих Известий», это-таки тоже стоило нам денег, ну, а теперь, когда обе газеты будут на нашей стороне, тогда мы покажем публике, что об импрессионизме в конце концов двух мнений быть не может.
Бердичевский от волнения слегка запыхался и, достав из кармана синий платок с красными горошинами, стал вытирать влажный лоб.
– Я поддержу вас, вы можете быть спокойны, – важно ответил Кедрович, – я ведь в редакции фактически значу всё. И я буду воздействовать. Статью о ваших художниках я напишу, но вот относительно скандала я ничего не понимаю. Какой это еще скандал?
Бердичевский усмехнулся, оглянулся по сторонам и в полголоса проговорил: