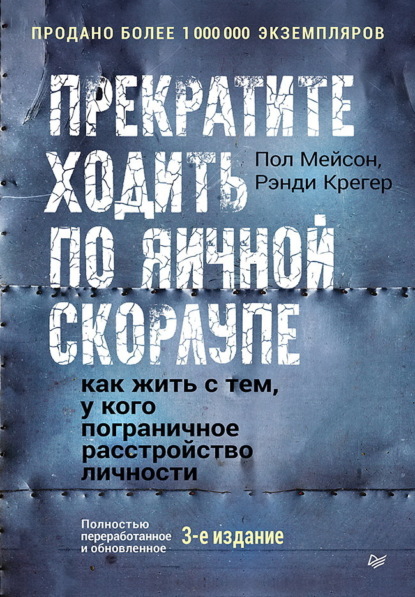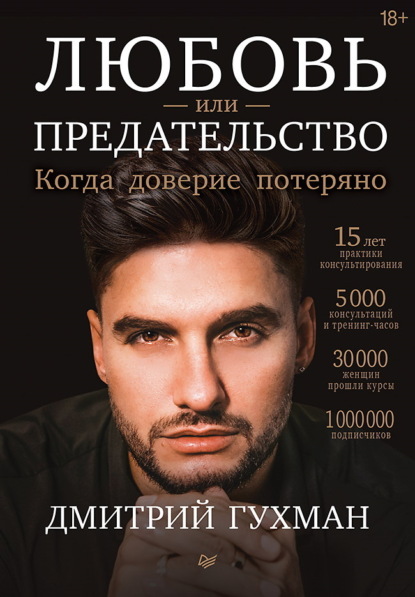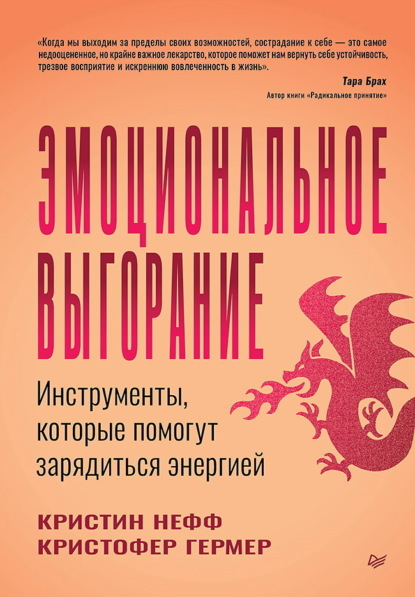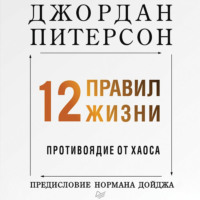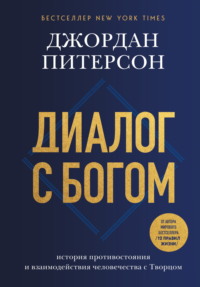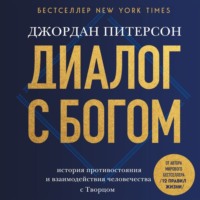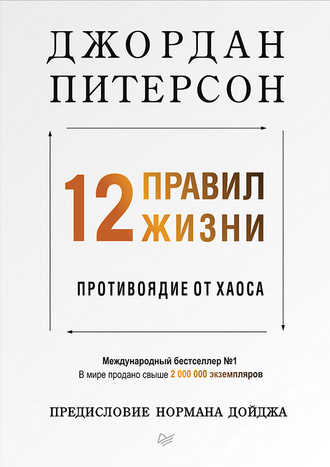
Полная версия
12 правил жизни. Противоядие от хаоса
Здесь Джордан упомянул бы миф о герое – кросс-культурную тему, которую с точки зрения психоанализа открыл Отто Ранк. Вслед за Фрейдом он отметил, что героические мифы во многих культурах схожи. Эту мысль подхватили, среди прочих, Карл Юнг, Джозеф Кэмпбелл и Эрик Нойман. Фрейд внес большой вклад в объяснение неврозов, фокусируясь на понимании того, что можно назвать историей героического провала (как, например, у Эдипа). Джордан же сосредоточился на героях, которых ждал триумф. Во всех этих историях триумфа герой должен был отправиться в неизвестное, на неисследованную территорию, принять новый, великий вызов и подвергнуться огромному риску. В процессе что-то в нем должно было умереть, от чего-то надо было отказаться, чтобы переродиться и принять вызов. Это требует отваги, и об этом редко говорят на занятиях по психологии и редко пишут в учебниках.
Во время недавнего публичного выступления Джордана за свободную речь и против того, что я называю «принудительной речью» (когда правительство принуждает граждан озвучивать свои политические взгляды), ставки были очень высоки. Джордан мог очень многое потерять и знал это. Тем не менее и я, и Тэмми видели, как он не только демонстрирует отвагу, но и продолжает жить по правилам из своей книги, хотя некоторые из них могут требовать очень многого. Я видел, как он перерастал ту замечательную личность, которой был, и становился кем-то еще более способным и уверенным, благодаря тому, что жил по этим правилам. По сути, написание книги и следование этим правилам привели его к тому, чтобы выступить против принудительной или вынужденной речи. Вот почему во время тех событий он начал постить некоторые мысли о жизни, а также свои правила в интернете. Теперь, когда у него больше 100 миллионов просмотров на YouTube, мы знаем, что они попали в яблочко.
Учитывая наше отвращение к правилам, как объяснить невероятный отклик на его лекции, которые дают правила? Все дело в харизме Джордана и его редкой готовности постоять за свои принципы – именно они привлекли к нему такое внимание в Сети. Его первые ролики на YouTube быстро набрали сотни тысяч просмотров. И люди продолжают слушать, поскольку то, что он говорит, отвечает их глубокой и невыраженной потребности. Наряду с желанием быть свободными от правил все мы ищем структуру.
Голод, который многие молодые люди испытывают в отношении правил или, по крайней мере, рекомендаций, сегодня заметно возрос, и не без причины. По крайней мере на Западе миллениалы живут в уникальной исторической обстановке. Думаю, это первое поколение, до которого настойчиво доносили два диаметрально противоположных представления о нравственности. Их преподавали в школах, колледжах, университетах, и делали это, в первую очередь, представители моего поколения. Противоречивость этих представлений порой оставляла молодых людей дезориентированным и неуверенными, лишенными всякого руководства и, что еще более трагично, лишенными богатств, о существовании которых они даже не догадываются. Первое учение заключается в том, что мораль относительна, в лучшем случае это личное оценочное суждение. Относительна – это значит, что ни в чем нет абсолютно правильного или неправильного, что мораль и связанные с ней правила во многом зависят от личного мнения и случайного стечения обстоятельств, что мораль родственна или соотносима с какими-либо рамками: этнической принадлежностью, воспитанием, культурой или временем, в которое человек появился на свет. Это не что иное, как случайность рождения.
Согласно этой теории (теперь уже вероучению), история доказывает, что религии, племена, нации и этнические группы склонны не соглашаться относительно фундаментальных материй, и так было всегда. Сегодня левые постмодернисты к тому же утверждают, что мораль отдельной группы – не что иное, как попытка проявить силу в отношении другой группы. Так что самое порядочное, что можно сделать, раз уж стало очевидно, насколько произвольны ваши и общественные «моральные ценности», – продемонстрировать толерантность людям, которые думают иначе, у которых другой (отличный от вас) бэкграунд. Этот акцент на толерантности первостепенен, поэтому для многих людей худший недостаток человека – склонность судить[1]. А поскольку мы не знаем, где верное, а где ложное, и что такое хорошо, выходит, самое неправильное, что может сделать взрослый, – дать молодому человеку совет, как жить.
И вот целое поколение растет необученным тому, что однажды было метко названо «практической мудростью» и направляло предыдущие поколения. Миллениалы, которым часто говорят, что они получили самое лучшее образование, на самом деле страдают от формы интеллектуального и морального пренебрежения. Релятивисты нашего с Джорданом поколения, многие из которых стали профессорами и преподают рожденным в нулевые, решили обесценить тысячи лет человеческих знаний о том, как приобретать добродетель, отвергнуть их как устаревшие, «нерелевантные» и даже «подавляющие». Они были в этом настолько успешны, что само слово «добродетель» теперь кажется устаревшим, а тот, кто его использует, предстает анахронично-назидательным и самодовольным.
Исследование добродетели – это не абсолютно то же самое, что исследование морали (правильной и неправильной, доброй и злой). Аристотель определял добродетели просто как способы поведения, которые наиболее способствуют счастью в жизни. Пороки же определялись как способы поведения, которые наименее способствуют счастью. Он отмечал, что добродетели всегда стремятся к балансу и избегают крайностей, к которым тяготеют пороки. Аристотель исследовал добродетели и пороки в своей «Никомаховой этике» – книге, основанной на опыте и наблюдении, а не на догадках о том, какое счастье возможно для людей. Культивация суждения о разнице между добродетелью и пороком есть начало мудрости, того, что никогда не может устареть.
Наш современный релятивизм начинается с утверждений, что выносить суждения о том, как надо жить, невозможно, поскольку не существует настоящего добра и настоящей добродетели (и то и другое взаимосвязано). С точки зрения релятивизма, наиболее близка к добродетели толерантность. Только толерантность обеспечит социальную сплоченность разных групп и спасет нас от вреда, который мы причиняем друг другу. Поэтому в Фейсбуке и других соцсетях вы выражаете свою так называемую добродетель, сообщая всем, как вы толерантны, открыты и сострадательны, и ждете урожая лайков. (Оставим в стороне то, что говорить людям, будто вы добродетельны, не есть добродетель – это самореклама. Сигнализировать о добродетели – не добродетель. Сигнализировать о добродетели – это, вполне возможно, наш самый распространенный порок.)
Нетолерантность к чужим взглядам (неважно, насколько они невежественны или непоследовательны) не просто неправильна. В мире, где нет правильного и неправильного, это еще хуже: это знак, что вы ошеломляюще бесхитростны или, возможно, опасны.
Однако, похоже, многие люди не могут вытерпеть вакуум – хаос – который свойственен жизни, но усугублен моральным релятивизмом; они не могут жить без морального компаса, без идеала, к которому можно стремиться. (Для релятивистов идеалы тоже являются ценностями, но, как все ценности, они относительны и вряд ли стоят жертв.) Итак, наряду с релятивизмом, мы видим рост нигилизма и отчаяния, а также противоположность моральному релятивизму – слепую уверенность, предлагаемую идеологиями, которые утверждают, что у них есть ответы на все.
И вот мы подходим ко второму учению, которым бомбардируют миллениалов. Они записываются на гуманитарный курс, чтобы изучать величайшие из когда бы то ни было созданных книг. Но им преподают не книги, а идеологические атаки на них, основанные на ужасающем упрощении. Если релятивист полон неуверенности, то идеолог, напротив, склонен к гиперосуждению и цензуре, он всегда знает, что с другими не так и что с этим делать. Иногда кажется, что единственные люди, которые в релятивистском обществе хотят дать совет, – это те, кто меньше всего может предложить.
У современного морального релятивизма много источников. Когда мы на Западе стали глубже изучать историю, мы поняли, что у разных эпох были разные моральные кодексы. Когда мы стали путешествовать за моря и открывать мир, мы узнали о многочисленных племенах на разных континентах, различные моральные кодексы которых имели смысл в рамках их собственных обществ.
Наука тоже сыграла свою роль, нападая на религиозный взгляд на мир и таким образом подрывая религиозные основы этики и правил. Материалистические социальные науки подразумевали, что мир можно разделить на факты (которые все могут наблюдать, которые объективны и реальны) и ценности (которые являются субъективными и личными). Тогда сначала мы могли бы согласиться с фактами и, возможно, однажды выработать научный кодекс этики (то ли еще будет). Кроме того, утверждая, что ценности менее реальны, чем факты, наука внесла новый вклад в моральный релятивизм, поскольку тот относился к ценностям как к чему-то вторичному. (Впрочем, идея, согласно которой мы можем с легкостью отделить факты от ценностей, была и остается до определенной степени наивной: ценности человека указывают, на что он будет обращать внимание и что будет принимать как должное.)
Идея о том, что у разных обществ разные правила и разная мораль, была известна и в древнем мире. Интересно сравнить, какой была реакция на это понимание тогда и сейчас (сейчас это релятивизм, нигилизм и идеология). Когда древние греки отправлялись на кораблях в Индию или еще куда-нибудь, они тоже обнаруживали, что правила, мораль и обычаи в новых местах отличались, и видели, что понимание правильного и ложного зачастую коренилось в заветах предков. Но греки ответили на это не отчаянием, а новым изобретением – философией.
Сократ, реагируя на неопределенность, разросшуюся из-за обнаружения конфликтующих моральных кодексов, вместо того чтобы стать нигилистом, релятивистом или идеологом, решил посвятить свою жизнь поиску мудрости, которая сможет обосновать эти различия, и таким образом помог изобрести философию. Он прожил жизнь, задавая сложные, фундаментальные вопросы, такие как «Что такое добродетель?», «Как прожить хорошую жизнь?» и «Что такое справедливость?» Он рассматривал разные подходы, спрашивая себя, какие из них наиболее последовательны и согласованы с человеческой природой. Я верю, что подобные вопросы оживляют и эту книгу.
Открытие того, что у разных людей разные убеждения о правильной и неправильной жизни, не парализовало древних. Оно углубило их понимание человечества и привело к наиболее убедительным беседам, которые когда-либо вели люди, относительно того, как можно жить.
Так же и Аристотель. Вместо того чтобы отчаиваться из-за разницы в моральных кодексах, он утверждал, что, хотя отдельные правила, законы и обычаи и разнились от места к месту, человек в силу своей природы склонен придумывать правила, законы и обычаи. Говоря современным языком, похоже, что люди настолько обеспокоены моралью (это им присуще на биологическом уровне), что создают структуру законов и правил, где бы ни находились. Идея, согласно которой человеческая жизнь может быть свободной от вопросов морали, – не больше, чем фантазия.
Мы генераторы правил. А учитывая, что мы нравственные животные, каким может быть воздействие на нас упрощающего современного релятивизма? Мы стреноживаем себя в попытках быть теми, кем на самом деле не являемся. Это маска, только странная, поскольку обманывает она того, кто ее носит. Хорошенько цар-р-рапните ключом новенький мерседес самого умного профессора из постмодернистов-релятивистов, и вы увидите, как быстро спадут с него маска релятивизма (с претензией на то, что не существует правильного и неправильного) и мантия радикальной толерантности.
Поскольку у нас еще нет этики, основанной на современной науке, Джордан не пытается развить свои правила, начав все с чистого листа – отвергая тысячелетнюю мудрость, будто это простое суеверие, и игнорируя наши величайшие моральные достижения. Гораздо лучше объединить то, что мы узнаём сейчас, с книгами, которые человек считал для себя достаточно подходящими, чтобы хранить на протяжении тысячелетий, и с историями, которые остались в памяти несмотря ни на что, которые не смогло уничтожить время. Джордан делает то, что всегда делали ответственные наставники: не утверждает, будто человеческая мудрость началась с него, но в первую очередь обращается к своим собственным принципам. И хотя в этой книге поднимаются серьезные темы, Джордан зачастую получает удовольствие, обращаясь к ним с легкостью и непринужденностью, что отражено в названиях глав. Он не претендует на исчерпывающую полноту своих суждений, и иногда главы состоят из широкомасштабных дискуссий о психологии человека в его понимании.
Так почему бы не назвать его труд книгой «рекомендаций», ведь это звучит куда более расслабленно, дружелюбно и менее жестко, чем «правила»?
Потому что это на самом деле правила. И первое правило – вы должны принять ответственность за свою жизнь.
Можно подумать, что поколение, которое постоянно слышало от своих идеологических учителей про права, права, права, которые ему принадлежат, будет возражать, если ему скажут, что было бы лучше вместо прав сфокусироваться на ответственности. Да, многие представители миллениалов не понаслышке знают, что такое гиперопека: они выросли в маленьких семьях, на игровых площадках с мягким покрытием, а потом учились в университетах с «безопасным пространством», где им не нужно слушать то, чего они не хотят слышать. Они вышколены так, чтобы испытывать отвращение к риску. Но в этом поколении есть и миллионы тех, кто чувствует себя никчемными из-за того, что их стойкость сильно недооценивают. И они приветствуют послание Джордана о том, что у каждой личности есть ответственность, которую она должна нести, что если человек хочет жить полной жизнью, то сначала надо привести в порядок свой дом – только тогда он сможет ставить перед собой разумные цели и стремиться к большей ответственности. Эмоциональность реакции этих молодых людей часто доводила нас обоих почти до слез.
Порой правила весьма требовательны. Под их влиянием вы запускаете всё усложняющийся процесс, который со временем подтянет вас к новым границам. А для этого, как я уже говорил, необходимо углубиться в неизвестное. Тянуться за границы своего нынешнего «я» – значит осторожно выбирать, а затем преследовать идеалы – идеалы, которые здесь, наверху, над вами, превосходят вас, и вы не можете быть уверены, что когда-либо их достигнете.
Но если неясно, достижимы ли идеалы, зачем мы утруждаем себя, упорно пытаясь их достигнуть?
Потому что если вы не будете к ним стремиться, вы определенно никогда не почувствуете, что ваша жизнь имеет смысл.
А еще потому, что, как бы странно это ни звучало, в самой глубине души мы все хотим, чтобы нас судили.
Доктор Норман Дойдж, доктор медицины,
автор книги «Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга»
Вступление

У этой книги две предыстории – короткая и длинная. Начнем с короткой. В 2012 году я открыл для себя сайт Quora («Кворум»). Там каждый может задать вопрос о чем угодно и каждый может ответить. Читатели голосуют за те ответы, которые им нравятся, и против тех, которые им не по душе. Таким образом полезные суждения поднимаются вверх, а все прочее должно кануть в Лету. Сайт меня заинтересовал. Мне понравилась его общедоступность. Там разворачивались захватывающие дискуссии, интересно было, насколько разные мнения может породить один вопрос.
Когда я отдыхал от работы или попросту отлынивал от нее, я частенько заходил на Quora и искал вопросы, в обсуждение которых мог погрузиться. Я обдумывал и в конечном счете отвечал на вопросы вроде «В чем разница между счастьем и удовольствием?», «Что меняется к лучшему, когда стареешь?» и «Что делает жизнь более осмысленной?»
На Quora видно, сколько людей просмотрели твой ответ и сколько за него проголосовали. Так вы можете определить, какую аудиторию охватили, и что люди думают о ваших идеях. Только малая часть просмотревших ответ голосует за него. Я пишу эти строчки в июле 2017 года. Пять лет назад я ответил на вопрос «Что делает жизнь более осмысленной?» Мой ответ достиг сравнительно небольшой аудитории – 14 тысяч просмотров, 133 положительных голоса. Мой ответ на вопрос о старении просмотрели 7200 человек, и 36 из них за него проголосовали. Не великое достижение, но таких результатов и следовало ожидать. На подобных сайтах большинство ответов удостаиваются очень скромного внимания, зато некоторые ответы становятся непропорционально популярными.
Вскоре после тех вопросов я ответил еще на один: «Что самое ценное в жизни, о чем каждый должен знать?» Я составил список правил, или максим. Некоторые из них были совершенно серьезными, некоторые ироничными: «Будьте благодарными, невзирая на свои страдания», «Не делайте то, что ненавидите», «Не напускайте туману» и так далее. И читателям Quora список понравился. Они его комментировали, делились им. Они писали, например, такое: «Обязательно распечатаю и буду придерживаться. Просто феноменально!» или «Вы собрали кворум. Сайт можно закрывать». Студенты Университета Торонто, где я преподаю, подходили и говорили, как им понравился мой список. На сегодняшний день мой ответ про самое ценное в жизни просмотрели 120 тысяч человек, проголосовали за него 2300 раз. Только несколько сотен из 600 тысяч вопросов на сайте Quora преодолели барьер в 2000 голосов. Мои размышления, вызванные прокрастинацией, задели читателей за живое. Своим ответом я попал в яблочко.
Когда я писал свой список правил жизни, для меня не было очевидно, что они так выстрелят. К каждому из примерно 60 ответов, опубликованных за несколько месяцев, я подошел довольно ответственно.
Quora знает толк в маркетинговых исследованиях. Респонденты анонимны, не заинтересованы в результатах. Их мнения спонтанны и непредвзяты. Взглянув на то, что получилось, я задумался о неожиданном успехе одного конкретного ответа. Возможно, когда я формулировал правила, мне удалось соблюсти верный баланс между известной и неизвестной информацией. Возможно, людей привлекла структура, которую подобные правила подразумевают. А может быть, людям просто нравятся списки.
Несколькими месяцами ранее, в марте 2012 года, я получил письмо от литературного агента. Она слышала мое выступление на радио СВС, в шоу под названием «Скажи счастью НЕТ». Я критиковал идею о том, будто счастье – это правильная цель жизни.
За последние десятилетия я прочитал множество книг о XX веке, фокусируясь, главным образом, на нацистской Германии и Советском Союзе. Александр Солженицын, великий документатор ужасов советских лагерей, однажды написал, что «жалкая идеология “человек создан для счастья”» выбивается «первым ударом нарядчикова дрына»1. В кризисной ситуации неизбежное страдание, которое влечет за собой жизнь, может быстро превратить идею о том, что счастье – это истинное устремление человека, в насмешку. На радио я предположил, что нам требуется более глубокий смысл.
Я заметил, что природа этого смысла постоянно проявляется в великих сюжетах из прошлого, и что они, скорее, связаны с развитием характера перед лицом страдания, чем с счастьем. Это уже часть длинной истории о настоящей работе.
С 1985 по 1999 год я примерно по три часа в день трудился над другой своей книгой – «Карты смысла: архитектура верования» (Maps of Meaning: The Architecture of Belief). В то время и в последующие годы я также вел курс, основанный на материалах этой книги, – сначала в Гарварде, а потом в Университете Торонто. В 2013 году, в связи с ростом сервиса YouTube и популярностью некоторых моих совместных проектов с канадским телеканалом ГУО, я решил заснять свои университетские и открытые лекции и выложить в интернет. Их аудитория стала заметно расти, и к апрелю 2016 года у них уже было больше миллиона просмотров. Число просмотров резко возросло и достигло 11 миллионов (на момент написания этой книги) отчасти потому, что я втянулся в политическую полемику, которая привлекла ко мне необыкновенное внимание.
Это другая история. Возможно, даже другая книга.
В «Картах смысла» я предположил, что великие мифы и религиозные сюжеты прошлого, особенно те, что еще передавались из уст в уста, были моральными, а не описательными по своему замыслу. Они были сфокусированы не на том, что собой представляет мир (это вопрос, который волнует ученых), а на том, как себя в этом мире должен вести человек. Я предположил, что наши предки изображали мир как сцену, как драму, а не как место, где находятся некие объекты. Я описал, как пришел к убеждению, что составными элементами мира драмы являются порядок и хаос, а не материальные вещи.
Порядок – это когда люди вокруг вас ведут себя в соответствии с хорошо понятными социальными нормами, когда их поступки предсказуемы, а сами они готовы к взаимодействию. Это мир социальной структуры, исследованной территории, он нам хорошо знаком. Государство Порядка обычно символически – образно – представляют как мужское. Это Мудрый король и Тиран, они тесно связаны друг с другом, поскольку общество – это одновременно структура и угнетение.
На контрасте с порядком хаос наступает там или тогда, когда случается что-то неожиданное. В обыденной форме хаос возникает, когда вы шутите в компании людей, которых, как вам кажется, вы знаете, и вдруг все общество сковывает молчаливый и неловкий холодок. Более катастрофичная форма хаоса – это когда вы вдруг оказываетесь без работы, или вас вдруг предает любимый человек. Хаос – антитеза символической маскулинности порядка, и его представляют как нечто женское. Это нечто новое и непредсказуемое, что внезапно вырастает посреди обычного и знакомого. Это Созидание и Разрушение, источник нового и конечная точка для старого, мертвого (как природа, в противоположность культуре, одновременно является рождением и смертью).
Порядок и Хаос – инь и ян, знаменитый даосский символ: две змеи, которые словно хватают друг друга за хвост[2]. Порядок – белая змея мужского пола, Хаос – ее черная, женская противоположность. Черная точка на белом и белая на черном означают возможность преобразования: когда все вокруг кажется безопасным, неизвестное может ворваться в жизнь, принимая неожиданно большие, пугающие размеры. И, напротив, когда кажется, что все пропало, новый порядок может родиться из катастрофы и хаоса.
Приверженцы даосизма считают, что смысл можно найти на границе навечно сплетенной пары. Чтобы идти по этой границе, нужно оставаться на пути жизни, на божественном Пути. И это гораздо лучше счастья.
Литературный агент, которую я упомянул, слушала передачу по радио СВС, где я обсуждал подобные темы. Та передача поставила перед ней глубокие вопросы. Она отправила мне письмо – спросила, не думал ли я написать книгу для широкой аудитории. Раньше я пытался написать более доступную версию «Карт смысла» – книги очень насыщенной, сложной. Но почувствовал, что ни во мне самом, ни в получившейся рукописи нет необходимой живости. Думаю, это произошло потому, что я лишь подражал себе в прошлом и своей первой книге, вместо того чтобы занять место между порядком и хаосом и создать что-то новое.
Я предложил агенту посмотреть четыре моих лекции для программы «Большие идеи» (BigIdeas) на TVO – они есть на моем YouTube-Kanane. Подумал, что если она их увидит, у нас получатся более содержательные и серьезные переговоры о том, какие темы я смогу затронуть в книге, рассчитанной на более широкую публику.
Агент связалась со мной несколько недель спустя, посмотрев все лекции и обсудив их с коллегой. Ее интерес возрос, и она погрузилась в проект. Это было многообещающе и неожиданно. Всегда удивляюсь позитивным откликам на то, что я говорю, учитывая всю серьезность и странную природу этих рассуждений. Я был восхищен, что мне позволили (и даже поощряли меня) обучать студентов в Бостоне, а теперь в Торонто, тому, чему я их обучаю. Всегда думал, что, если люди поймут, что я на самом деле преподаю, расплата будет страшной. Прочитав эту книгу, вы решите, есть ли основания для такого беспокойства:)
Агент предложила мне написать руководство о том, что нужно человеку для хорошей жизни, что бы это ни значило. Я тут же подумал про свой список для сайта Quora. К тому моменту я записал новые мысли о правилах, которые некогда там опубликовал. Эти идеи тоже получили позитивные отклики. Я подумал, что мой список для Quora и идеи моего нового агента прекрасно совпадают. Отправил список, и ей понравилось.
Примерно в то же время мой друг и бывший студент писатель и сценарист Грегг Гурвиц обдумывал новую книгу, которая превратилась в триллер-бестселлер «Сирота Икс» (Orphan X). Ему правила тоже пришлись по душе. Он заставил главную героиню своей книги, Миа, вешать их одно за другим на холодильник, в те моменты, когда они приходятся кстати. Вот и еще одно доказательство в пользу моего предположения, что эти правила привлекательны. Я сказал своему агенту, что готов написать по короткой главе на каждое из этих правил. Она согласилась, и я оформил таким образом заявку на книгу. Но когда я стал писать саму книгу, главы уже вовсе не были маленькими. Оказалось, что мне нужно сказать о каждом правиле гораздо больше, чем я изначально представлял.