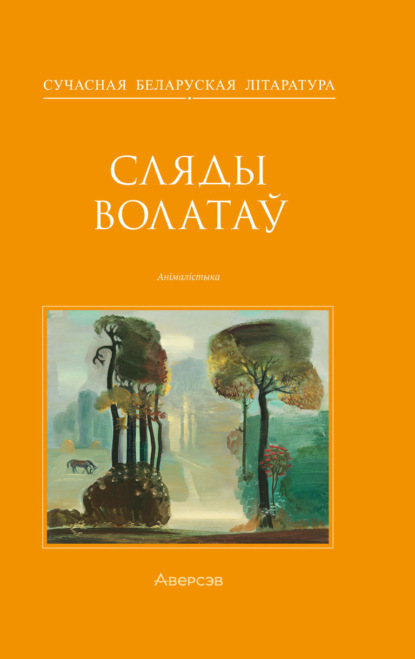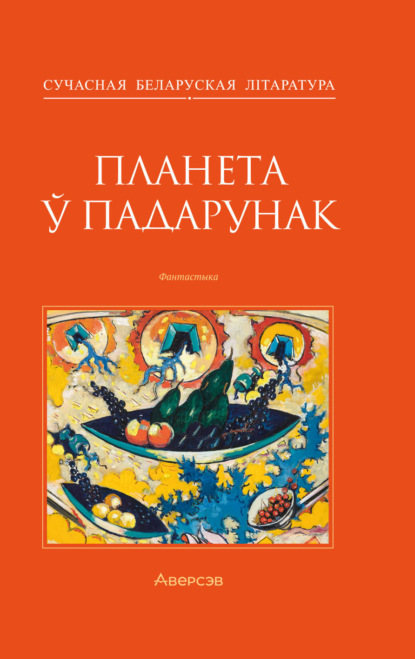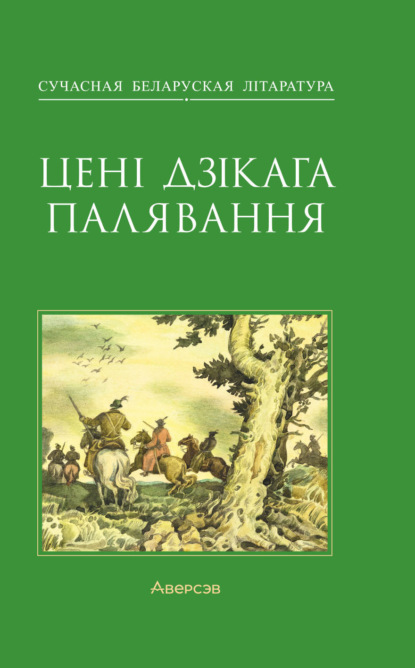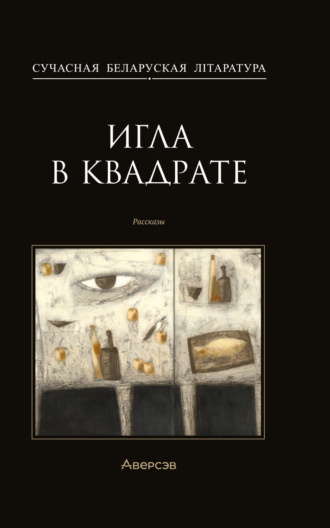
Полная версия
Игла в квадрате
Аркадий совсем исчез из ее жизни. Правда, однажды все знающие соседки сообщили, что он женился. Но вторая женитьба не изменила его. Пил он по-прежнему, и все больше развивалась в нем черта, которая когда-то была совсем незаметной. В подпитии он, хотя не был агрессивным по натуре мужиком, всегда влезал в споры и разборки собутыльников, а иногда и случайных лиц. Впрягался, как он сам когда-то говорил. Видимо, в одно из таких впряганий получил он по голове железной трубой, а упав, ударился о бетонный поребрик основанием черепа.
Те же соседки сказали Алене, что он находится в девятой больнице, парализованный и потерявший способность говорить.
Новая жена не стала забирать его из больницы, и Алена с младшеньким перевезли папу домой, где он поселился в одной из комнат их двухкомнатной квартиры.
Дети под руководством Алены быстро выучили ритуал обслуживания отца. Дать пить, покормить, по часам перевернуть. А уж массаж, камфорные протирания и все остальное делала она сама. В силу невозможности надолго отлучаться из дома Алена перестала ездить к себе в деревню, да и вообще куда-либо выезжать за пределы городской черты. И, наверное, в качестве компенсации этой добровольной тюрьмы, стены которой совпадали то со стенами квартиры, то с кольцевой дорогой Минска, она вернулась к одному из своих детских увлечений.
Зарплаты постоянно не хватало, и Алена подрабатывала, делая инъекции на дому. У нее была легкая рука. Пациенты ей доверяли. Впрочем, известность «мастера иглы» она приобрела не сразу. Постепенно те, кто верил в ее руку, распространяли слух, который Алена не опровергала. Они говорили, что эта процедурная из рода полесских колдуний. Она может заговаривать зубы, а уколы, сделанные ею, безболезненны. Для тех, кто этого еще не знал, она применяла заморочки, выработанные годами практики. То шлепнет по противоположной ягодице, то скажет какую-нибудь колкость. Но никто за это не был на нее в обиде. Уж лучше тебя предварительно уколет острый язык, зато потом не почувствуешь боли от укола иглой шприца.
Молодые медсестры пытались ей подражать, но чаще всего это им не удавалось, потому что пытались они копировать некую поверхностную сторону ее поведения и разговоров с больными, еще не отдавая себе отчета, что главное в чем-то другом. Впрочем, в чем основа ее мастерства, Алена и сама не знала. Дал Бог талант, и на здоровье.
– Просто у меня большая практика, – говорила она тем, кто пытался выведать у нее секреты искусства.
С этим соглашались. Инъекций за свою жизнь она сделала немало. Но не у всех количество переходит в качество. Взять хотя бы Нору Степановну – вторую дежурную сестру. Ей через год на пенсию. А больные воют, когда она входит в палату со шприцем в руках. Ну, не создана ее рука колоть, хоть ты убей, несмотря на то, что она, так же как и Алена, всю свою жизнь только и делает, что колет.
Однако никто из ее сослуживцев и не догадывался, что практика ее была в другом. Детское увлечение, к которому она вернулась, было вышиванием. Но это были не те женские вышивки, которые барышни шестидесятых годов прошлого столетия делали при помощи ниток мулине и пялец.
Растянув на огромном квадрате основу, Алена вышивала гобелены.
И с этой неполой иглой она управлялась так же ловко, с таким же мастерством и любовью, как с той, что имела наружный срез, внутренний канал и канюлю.
Готовя еду, убирая в квартире, массируя тело парализованного мужа, чтобы не было пролежней, и протирая его камфорным маслом, Алена представляла себя маленькой девочкой, которой мать в тарелку манной каши положила ложку варенья. И она спешит съесть кашу, чтобы потом не торопясь насладиться лакомством. От этой работы-лакомства у нее не ныла спина, не болели руки, и сама работа выпадала из времени и пространства.
Вышивала Алена без рисунка. Усаживаясь за станок, иногда не знала, что у нее получится. Но с первых же стежков выходило так, что она работала, будто по матрице.
Вся прежняя жизнь до переезда в Минск словно отразилась в ее голове и выплескивалась на тканевую основу. Это были картинки полесского жития: густых и мрачноватых лесов; лугов с разнотравьем, в котором преобладали желтые цвета; деревянной бани, хозяйственных построек, почерневших от сырости и времени; кривых ульев, той пасеки, за которую насмерть билась с сыновьями бабка Макрына, когда те хотели продать ее вместе с усадьбой и забрать мать в Пинск.
При всем этом картины нельзя было назвать реалистическими. Но каждый, кто смотрел на эти сочетания цветов, видел именно то, что видела она, только по-своему, словно именно это сочетание служило неким толчком к собственному представлению о том, что было заложено в их содержании и названиях. «Луг» поражал буйством красок, и, несмотря на то, что на картине не было ни одного цветка, зрители иногда перечисляли до десятка их названий. «Лето» удивляло осязаемым зноем, тишиной, в которой ощущалось стрекотание кузнечиков. Фиолетовые краски «Зимнего вечера на Полесье» побуждали искать тепло у теплой печки.
* * *И только одна картина не была похожа на все творения Алены.
Она называлась «Взрыв». Это был причудливый разброс и переплетение красок, которые мгновенье назад еще были в центре картины. Непередаваемое ощущение мощи, которая сдерживалась некоей оболочкой, а затем разлетелась под влиянием еще большей силы. И именно в этот момент игла художника смогла зафиксировать и передать через краски эту мощь.
К Алене ходили знатоки. Выражали удивление, что она не член Союза мастеров народного творчества. Иногда приходили представители из картинной галереи и предлагали приобрести некоторые из ее работ. В последнее время стала звонить секретарша какого-то «бизнесмена Кондратьева», предлагая купить все картины оптом. Но Алена вдруг заупрямилась. Ей почему-то показалось, что, продав картины, она ничего больше не создаст. И Бог, наделивший ее талантом, лишит ее возможности творить.
Алена поднялась на четвертый этаж, открыла дверь квартиры ключом и, не снимая обуви, прошла в комнату к Аркадию. Слава богу, все было в порядке. Обычно в дни, когда Виталька куда-либо отлучался, она просила дочь Варю присмотреть за отцом. Но вот уже два года та живет с мужем отдельно. Оба зарабатывают деньги на свой угол, и поэтому квартиру они снимают в Фаниполе[4].
Алена зажгла маленькую лампочку ночника. Перевернула Аркадия на бок.
– Все нормально? – спросила она его.
Он хлопнул в ответ глазами. Таким языком они пользовались с первого дня его возвращения в лоно бывшей семьи.
– Виталька уехал в Брест, – сказала Алена.
Аркадий опять хлопнул глазами в знак того, что все это ему известно.
– У, как ты зарос, – сказала Алена и провела по редким волосам бывшего мужа, – в воскресенье будем тебя стричь. Лежи.
Она подоткнула под спину Аркадию две специально сшитые плотные подушки, больше похожие на валики, и пошла на кухню готовить кашу.
Однако раздался телефонный звонок и ей пришлось вернуться в коридор и снять трубку телефона.
– Алена Михайловна? – спросил женский голос.
– Да, – ответила она, узнавая секретаршу «бизнесмена Кондратьева».
– С вами будет говорить Игорь Павлович…
* * *Семь лет назад она возвращалась домой с работы. Был вечер. Троллейбус, на котором она ехала, неудачно свернул с проспекта на боковую улицу, и у него сорвалось то, что когда-то маленький Виталька называл удочками. Водитель остановил троллейбус, вышел из него и стал манипулировать веревками, но что-то наверху заело, и он влез на крышу.
Пассажиры терпеливо ждали, пока эта процедура закончится, однако случилось неожиданное. Раздался хлопок, салон на мгновение озарился голубоватым светом, и тело водителя, пролетев мимо окон салона, упало на асфальт. Пассажиры высыпали наружу и образовали круг, в центре которого находился бездыханный водитель.
В Алене в этот момент словно что-то включилось, хотя она смутно помнит свои действия в той ситуации. Впоследствии «Вечорка» описала их весьма красочно. Оказывается, Алена сказала всем, что она врач, послала одного из мужчин звонить в скорую, а сама начала делать водителю непрямой массаж сердца. Она никогда не делала этого в своей работе, но однажды была свидетелем, как у них в больнице американские врачи стажировали своих коллег в рамках терапии неотложных состояний на манекене. Сестры называли этот манекен Ванькой и в отсутствие врачей пытались повторить действия реаниматоров.
Скорая прибыла через четверть часа, но Алене удалось «запустить» сердце водителя в течение первых четырех минут, и она могла законно гордиться тем, что именно она сделала все, чтобы тот остался полноценным человеком.
Она уже забыла о случившемся. Но спустя месяц у дверей больницы ее встретил тот, кого сослуживцы после публикации материала в «Вечорке» называли крестником. Он был в парадном костюме и с букетом цветов.
Потом они сидели в кафе «Сосны», пили шампанское, и оба испытывали неловкость, предчувствуя, наверное, что встреча эта может многое изменить в их жизни.
После этого они стали встречаться, так обозначили бы то, что произошло, ее соседки. Разрываясь между заботами о больном Аркадии, детях, путаясь в конспиративных встречах, она тем не менее не бросала своего любимого занятия, хотя и уделяла ему внимание только ночью. И трудно было понять, что придает ей силы – новая любовь или старое увлечение.
Именно тогда появился «Взрыв». Картина, не похожая ни на одну ее прежнюю работу. Впрочем, и последующие тоже.
Их роман, или, как говорили в таких случаях сослуживцы, отношения, продолжался два месяца.
В один из дней сентября, когда листья каштанов уже порыжели и наступило бабье лето, у дверей больницы ее встретила женщина.
– Здравствуйте, – сказала она, – именно такой я вас и представляла. Я жена Николая.
Потом они сидели в кафе «Сосны» и совершенно спокойно говорили каждая о своем. Вероника, как звали жену Николая, не угрожала ей, не пыталась брать с нее клятв не разрушать семью. Все было вполне пристойно. Разговор шел о трудностях вообще. О проблемах воспитания двух девочек, фотографии которых тут же были извлечены из сумочки.
В конце этой встречи Вероника еще раз поблагодарила Алену за то, что она один раз уже спасла ее мужа для девочек. И пригласила при случае навестить их семью.
В тот же день Алена позвонила другу Аркадия, который по-прежнему работал на городской АТС, и попросила посодействовать быстрой замене номера ее квартирного телефона.
* * *Алена приготовила кашу, покормила Аркадия, промассировала ему спину, перевернула на другой бок и снова ушла на кухню, чтобы уже поужинать самой.
Пока она делала это, мыла посуду, в голове вертелись слова «бизнесмена Кондратьева», который знает о квартирных проблемах Вари. И откуда он о них узнал, прямо какая-то бизнес-разведка. Далее он сказал, что продажа картин по той цене, которую они стоят, может эту проблему решить.
– Ваш ответ? – спросил он.
– Я подумаю, – ответила Алена.
Однако, когда она вошла в свою комнату и стала смотреть на стены, увешанные работами, решимость вдруг оставила ее. Ей опять представилось, что, продав картины, она останется не только с пустыми стенами, но и никогда больше не сможет испытать это сладостное чувство, волшебный процесс, когда из ничего получается что-то.
* * *Алена провела кошмарную ночь и впервые за многие годы опоздала на работу.
Раздевшись в гардеробе больницы, она поднялась в отделение. В коридоре отделения никого не было. Видимо, заведующая собрала врачей у себя, а средний персонал был уже в сестринской. Открыв шкафчик в процедурном, она увидела, что сестра-хозяйка так и не заменила ей старый халат на новый. Но сейчас это было не главным, шестым чувством она понимала, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Запах грозы словно исходил от стен отделения. В дверях показалась сестра-хозяйка:
– Я принесу халат, когда все успокоится, – сказала она, подтвердив худшие предположения Алены.
– А что случилось?
– Вторая палата забастовала.
– Каким образом?
– Отказались колоться у Норы…
– Час от часу не легче…
Алена вошла в сестринскую, когда старшая уже заканчивала то, что в отделении называлось разбором залетов. К опозданию Алены, однако, старшая отнеслась благосклонно, как любящая мать к проступку любимой дочери.
– А вот и Алена, – сказала она, – все свободны, кроме нее…
Сестры быстрей, чем обычно, стали покидать кабинет старшей, из чего Алена поняла, что ей предстоит миссия, от которой многие только что отказались.
– Алена, – сказала старшая, когда все вышли из кабинета, – нужно сделать утренние инъекции второй палате… После Норы девчонки туда боятся…
– Ну, надо так надо, – ответила Алена словами популярной телерекламы, в которой лихой директор предлагает своим подчиненным работать без выходных…
– Вот и прекрасно, – ответила старшая, – за работу…
Алена взяла на посту дежурной сестры листы назначений пациентов второй палаты, просмотрела их, положила, как в старые времена, на крышку от стерилизатора одноразовые шприцы и направилась во вторую, не без основания предполагая, что провокатором забастовки там был, скорее всего, Каток…
– Ну-с, – сказала она бодро, входя в палату, – начнем лечиться.
– Куда будем делать? – не преминул съязвить Катуковский.
Нужно было брать инициативу в свои руки, иначе ей завладел бы Каток.
– Языкастым в язык, остальным в ягодицу, – безапелляционно сказала Алена.
Закончив процедуры, Алена направилась к дверям палаты. Но Катуковский не был бы самим собой, если бы позволил последнему слову не остаться за ним. Он развел руками и произнес иронически:
– Игла в квадрате.
В палате на это не отреагировали. Он был балабон, а балабон должен болтать и к месту, и не к месту – такая у него стезя. И только Алена поняла, насколько точно определил ее сущность Каток.
У процедурного кабинета уже скапливались больные. Алена попросила их немного подождать, зашла в сестринскую, набрала номер телефона Кондратьева и сказала, что продаст ему гобелены.
– Все? – спросил он.
– Все, – ответила она. И, немного помедлив, добавила: – Кроме «Взрыва»…
Земляки-сибиряки
Мы познакомились на пляже курортного поселка у подножья знаменитого Аю-Дага. Пляж не был санаторным, а принадлежал поссовету, а потому не имел присущего лечебным лоска и, по черноморским меркам, был очень мал. В пространство между двумя бетонными волнорезами он с трудом вмещал сотню неорганизованных отдыхающих.
Неорганизованные боролись за место под солнцем, поднимаясь ни свет ни заря, чтобы «застолбить» прокатным лежаком небольшой участок на гальке. Случайно мой лежак оказался рядом с топчаном высокого мужчины, чем-то похожего на Спартака, точнее, на Кирка Дугласа, когда-то сыгравшего эту роль в кино.
Мужчина был достопримечательностью пляжа. Он выделялся среди всех великолепным трехнедельным крымским загаром и еще более великолепной фигурой легкоатлета-десятиборца с сухими рельефными мышцами. В фигуре этой было редкое сочетание мощи и изящества.
Когда мужчина шел по пляжу или выходил из воды, за ним, как подсолнухи вслед за солнцем, поворачивали свои широкополые шляпки все дамы нашей галечной косы.
Но мужчина ни на кого не обращал внимания, и я был удивлен, когда он спросил меня:
– Сибиряк?
В голосе его мне послышался нездоровый интерес. Так спрашивают о редкой болезни или тайном пороке, и я чуть было не ляпнул глупую остроту о каторжном клейме, которым помечены сибиряки, но в последний момент сдержался и ответил коротко, чтобы не продолжать разговор.
– Да.
Мужчина, видя мою ершистость, улыбнулся, и к дугласовской ямочке на подбородке прибавились еще две ямочки на щеках.
– Не сердитесь, – сказал он, – любопытство мое от ностальгии… Я родился и вырос в Новосибирской области… служил на Дальнем Востоке…
Познакомились. Соседа моего звали Виктором. В Крым он приехал из Липецка.
Через час мы были с ним уже на «ты», а к вечеру того же дня я знал о нем больше, чем он обо мне. Объяснялось это тем, что говорил в основном он и говорил о прошлой своей жизни. Выходило так: лучшие годы он провел в Сибири, лучшие люди – тоже в Сибири, и так далее.
Я посмеивался над ним, потому что со многими его доводами был не согласен, но он не обращал на это внимания.
– Вот брошу Липецк и уеду в Сибирь, – мечтательно говорил Виктор, – там жизнь…
Он приехал в Крым с женой и дочкой, но тем не понравился неорганизованный отдых, и они улетели к теще, а зять остался погреться на солнце еще недельку.
Три дня мы вместе купались, загорали, ходили обедать в летнее кафе рядом с пляжем. На четвертый день он пришел поздно, когда все места на пляже были уже заняты.
– Улетаю сегодня, – сказал он. – Я разденусь у тебя?
– Конечно, – ответил я, – а почему так спешно?
– Дела, – произнес он неопределенно и пошел в море.
Искупавшись, вернулся ко мне и уселся на лежак. Помолчали. Он достал часы, взглянул на циферблат:
– Пожалуй, успею еще раз искупаться.
– Разумеется, – ответил я, хотя не знал, сколько времени у него в запасе. – Все хотел тебя спросить: как ты определил, что я сибиряк?
Виктор самодовольно усмехнулся:
– У меня дар ясновидения. Это мне в работе, знаешь, как помогает? Приходит ко мне, скажем, малец лет семи-восьми и лопочет, мол, хочет заниматься легкой атлетикой… А у самого ручки-веревочки, ножки-камышинки, от сверстников в развитии отстает… И данных у него нет, и наследственность ни то ни се, а я вижу – из парня будет толк. Вижу, что работать он будет не в пример развитым одногодкам, и компенсирует отставание, и вперед уйдет, и к пятнадцати годам не сменяет легкую на дискотеки и прочие молодежные развлечения… Вот так… Я и профессию себе выбрал потому, что в себе этот дар открыл. Дар ясновидца… Это тоже, кстати сказать, в Сибири было… в Новосибирске…
– Ну, про Сибирь потом, – перебил я его. – Ты мне скажи, как ты узнал, что я оттуда.
Он снова усмехнулся и ответил:
– По загару было видно, что ты приехал только-только. На пляж пришел в начале седьмого, а выглядел как огурчик… Значит, ты приехал или прилетел оттуда, где трех – четырехчасовая разница во времени. Уловил? Во-вторых, загар у тебя был не бронзовый, как в Крыму, а наш, сибирский, – красновато-черный.
Ну и в-третьих. Ты на отдых приехал, а на пляж ходишь, как на работу, – собранный, деловой. Не умеешь раскрепощаться, не умеешь отдыхать. Это тоже нам, сибирякам, свойственно. Понял?
– Да, – покачал я головой, – тебе психологом надо работать, а не тренером.
– Одно другому не мешает, – и опять начал говорить о Сибири: – Пятнадцать лет назад после срочной жил я у родителей в поселке Чистоозерное Новосибирской области… Отдыхал… Сам знаешь, как по дембелю отдыхать: спал до обеда, по вечерам – на танцы, дискотек тогда не было, с девчонками гулял до утра. Не сморчок в стакане был – старшина первой статьи, в общем, вел ту жизнь, о которой на флоте три года мечтал. Жил без забот. Правда, мыслишка одна тревожила: а что потом, что дальше? Но я ее гнал от себя. Авось на что-нибудь решусь. Учиться пойду или работать… Была бы шея…
Ну вот, сижу я как-то дома, и ко мне, как смерч, врывается тренер поселковой ДЮСШ Коля Братов, весь из себя деловой… Он старше меня года на три был, к тому времени физкультурный техникум закончил и уже пару лет отработал в школе.
Коля был местным пижоном. Роста он небольшого и, как большинство коротышек, старался выглядеть выше – носил туфли на огромных каблуках. Даже в жару не снимал светлый кримпленовый пиджак, полы которого по тогдашней моде были вечно расстегнуты и обнажали широкий, как лопата, красный галстук. Уже значительно позже, когда смотрел в записи матчи наших хоккеистов с профессионалами, понял я, что одежду и манеры Коля позаимствовал у хоккейных тренеров – и наших, и канадских. Но тогда я этого не знал, и взрослый вид Братова поразил меня.
Братов начал без предисловий:
– Есть необходимость заткнуть дыру в эстафете четыре по сто и в шведке. Как? Не деквалифицировался?
Я хотел объяснить ему, что на крейсере бегал другие дистанции, не такие прямые, и в основном от кубрика до боевого поста, но сдержался и сказал:
– Подумаю.
А надо сказать, что до армии я прилично сотку бежал. Один раз за одиннадцать пролетел, – а это первый разряд… Жаль, результат не засчитали – ветер попутный был…
В тот же день я взял у Братова секундомер и вечером на стадионе пробежал сто метров раз, другой… Чуть-чуть за двенадцать вылез. Отяжелел на флотских макаронах, но Братов меня успокоил: мол, для команды этого достаточно, – и я решил ехать.
Братов вез в Новосибирск на взрослые соревнования бывших десятиклассников. Они только что выпустились, были чрезмерно самостоятельны и даже нахальны, на меня посматривали как на что-то доисторическое.
Перед поездкой Братов меня проинструктировал: я не должен был звать его Колей, а только Николаем Панкратьевичем; не должен был вмешиваться в тренерскую работу и руководство командой.
– Ты едешь отдохнуть за казенный счет, – пояснил он, – я на тебя не ставлю.
Коля и на других своих воспитанников не ставил, кроме средневички Ольги Коротун. Ольга была звездой команды и надеждой Братова. Прошлым летом она выиграла первенство области среди старших школьников, а в этом году Коля хотел ее «обкатать» на взрослых соревнованиях. Хотя правильней было бы сказать, не «обкатать», а показать Ольгу.
Ольгу я знал, разумеется, насколько может знать восемнадцатилетний парень, уходящий в армию, девчонку четырнадцати лет, живущую через три дома от него.
В детстве Ольга была, можно сказать, достопримечательностью нашего квартала. Правда, со знаком минус.
Родилась она в семье Федора Коротуна, составителя вагонов на железнодорожной станции, у которого долго не было детей, и вот, наконец, на стыке четвертого и пятого десятка жена забеременела. Коротун, который был чуть старше своей супруги, от счастья ошалел и стал хвастаться соседям, что на старости лет Бог послал ему наследника. Соседи посмеивались и спрашивали в шутку:
– Почему у него такая уверенность? Уж не клал ли он кобуру под подушку?..
В общем, ошибся составитель, родилась девочка, но, видимо, старания Коротуна не пропали даром. У девочки был мальчишеский характер, а упрямства столько, что и на трех пацанов с лихвой хватило бы. Да и похожа она была на мальчишку: рыжая, курносая и с таким упрямым взглядом исподлобья, что от него хотелось глаза отвести.
В первом классе Оля умудрилась довести до слез молодую учительницу, выпускницу педучилища. Досконально я эту историю уже не помню. Помню только, что целая война шла в классе из-за места. Учительница рассадила всех по собственному усмотрению, но Ольга на перемене уселась там, где сама хотела, «переселив» довольно жестким образом мальчишку-одноклассника. После перемены появилась учительница и очень удивилась тому, что Ольга сидит на чужом месте, а одноклассник с красным ухом – на Ольгином. Справедливость тут же была восстановлена, но через перемену Ольга опять сидела на облюбованном месте. История эта повторилась еще несколько раз, пока отчаявшаяся учительница не пошла на крайнюю для первоклашек меру – пригласила в школу родителей.
После беседы с учительницей старый Коротун – стыдно говорить – взялся за ремень и, говорят, с чувством отходил «наследника». Об этом знал весь квартал, так как во время экзекуции из дома Коротунов раздавался плач и даже крик. Это плакала мать, а дочь не проронила ни слезинки.
Вот такая была девчонка.
И уж если она что-то задумала, то не было такой преграды, которая могла бы ее остановить.
Еще дошкольницей она любила самостоятельно хозяйничать в доме. Благо родители – железнодорожники и работали в одну смену, так что никто ей не мешал делать то, что вздумалось.
В отсутствие родителей от соседей по дому только и слышалось:
– Оля! Ты зачем собираешь щепки? Оля! Ты зачем тащишь уголь?
– Зачем, зачем, – отвечала Ольга, как некрасовский Мужичок с ноготок, – печку топить.
– Оля, прекрати, – волновались соседки, но та их не слушала и продолжала волоком волочь в дом ведро с углем.
Через четверть часа соседки замечали дымок над трубой – Оля топила печь, а они по очереди забегали в дом Коротуна приглядеть, чтобы ребенок не сгорел, да, избави бог, огонь не перекинулся на их избы.
Такой я ее знал. Но на вокзале увидел совершенно иную девушку. Удивительно, как я мог не заметить ее раньше, наверное, спал долго. Она выросла, оформилась, и от той девчонки остался только курносый нос…
В Новосибирске нас как самую малочисленную команду разместили в гостинице при стадионе.
Гостиница как гостиница. Комнаты на двоих, кровати деревянные. Только в номерах окна большие и потолок скошенный – гостиница под трибунами располагалась. Здесь же, шокируя наших школьников развязными манерами и джинсовым облачением, проводила сборы местная футбольная команда. Их тренер пытался держать футболистов в ежовых рукавицах: он лично «отбивал» команду, лично приходил на подъем, а по вечерам, собираясь домой, строго наказывал администраторшам, молодым женщинам, докладывать ему обо всех случаях нарушения режима, особенно о самовольных отлучках после отбоя. Питомцы знали о поставленных администраторшам задачах и откупались шоколадками. И если бы тот тренер обладал таким даром ясновидения, как у меня, он смог бы точно вычислить, сколько его воспитанников отсутствовало ночью, – стоило лишь посчитать шоколадки, которые по утрам администраторши перекладывали из холодильника в сумочку…