
Полная версия
Властитель человеков
– Прости меня, – сказал Кернер со своей бледной, тихой усмешкой. – Я разговаривал сам с собой? Кажется, это у меня входит в привычку.
Смерть Дуракам повернулся и вышел из ресторана.
– Подожди меня здесь, – сказал я, вставая. – Я должен поговорить с этим человеком. Почему ты ничего ему не ответил? Неужели оттого, что ты дурак, ты должен издохнуть, как мышь под его сапогом? Ты что, даже пискнуть не мог в свою защиту?
– Ты пьян, – отрезал Кернер. – Никто ко мне не обращался.
– Тот, кто лишил тебя разума, – сказал я, – только что стоял рядом с тобой и обрек тебя на гибель. Ты не слепой и не глухой.
– Ничего такого я не заметил, – сказал Кернер. – Я не видел за этим столом никого, кроме тебя. Сядь. Больше ты никогда не получишь абсента.
– Жди меня здесь, – сказал я, взбешенный. – Раз твоя жизнь не дорога тебе, я сам тебя спасу.
Я выскочил на улицу и догнал старика в сером через несколько домов. Он был таким, каким я тысячу раз видел его в воображении, – свирепый, седой, грозный. Он опирался на белую дубовую палку, и если бы улиц не поливали, пыль так и летела бы у него из-под ног.
Я схватил его за рукав и потащил в темный угол. Я знал, что он – миф, и не хотел, чтобы полисмен застал меня разговаривающим с пустотой – не хватало еще очутиться в больнице «Бельвю», разлученным со своей серебряной спичечницей и брильянтовым кольцом!
– Джесси Хомз, – сказал я, глядя ему в лицо и симулируя храбрость. – Я вас знаю. Я слышал о вас всю жизнь. Теперь я понял, каким наказанием Божьим вы стали для Юга. Вместо того чтобы истреблять дураков, вы убивали талант и молодость, столь необходимые для жизни народа и его величия. Вы сами дурак, Хомз. Вы начали убивать самых лучших, самых блестящих своих соотечественников три поколения назад, когда старые, обветшалые мерки общественных отношений, приличий и чести были узкими и лицемерными. Вы это доказали, наложив печать смерти на моего друга Кернера, умнейшего парня, какого я когда-либо встречал.
Смерть Дуракам посмотрел на меня пристально и угрюмо.
– Странно на вас действует вино, – сказал он задумчиво. – Да-да, я вспомнил, кто вы такой. Вы сидели с ним за столиком. Если я не ослышался, его вы тоже называли дураком.
– Называл, – сказал я. – И очень часто. Это от зависти. По всем общепризнанным меркам, он – самый отъявленный, самый болтливый, самый грандиозный дурак на всем свете. Поэтому вы и хотите его убить.
– Не откажите в любезности, – сказал старик, – объясните, за кого или за что вы меня принимаете.
Я громко расхохотался, но тотчас умолк, сообразив, что мне несдобровать, если кто увидит, как я предаюсь шумному веселью в обществе кирпичной стены.
– Вы – Джесси Хомз, Смерть Дуракам, – сказал я очень серьезно, – и вы хотите убить моего друга Кернера. Не знаю, кто вас сюда позвал, но, если вы его убьете, я добьюсь, чтобы вас арестовали. То есть, – добавил я, теряя апломб, – если мне удастся сделать так, чтобы полисмен вас увидел. Они и смертных-то неважно ловят, а уж для того, чтобы изловить убийцу, который – миф, понадобится вся полиция Нью-Йорка.
– Ну, мне пора, – отрывисто произнес Смерть Дуракам. – Ступайте-ка лучше домой да проспитесь. Спокойной ночи.
Я опять испугался за Кернера и перешел на другой тон, более мягкий и смиренный. Припав к плечу старика, я стал его молить:
– Добрый мистер Смерть Дуракам, пожалуйста, не убивайте маленького Кернера! Возвращайтесь лучше к себе на Юг, убивайте там на здоровье конгрессменов и всякую голытьбу, а нас оставьте в покое! Или почему бы вам не пойти на Пятую авеню убивать миллионеров, которые держат свои деньги под замком и не позволяют молодым дуракам жениться, потому что невеста не из того квартала? Пойдем выпьем, Джесси, а потом уж займетесь своим делом.
– Вы знаете эту девушку, из-за которой ваш друг валяет дурака? – спросил Джесси Хомз.
– Я был ей представлен, – отвечал я, – потому и назвал его дураком. Он дурак потому, что до сих пор на ней не женился. Он дурак потому, что все ждал и надеялся на согласие какого-то нелепого дурака с двумя миллионами – не то отца, не то дяди.
– Возможно, – сказал Смерть Дуракам, – возможно, мне следовало посмотреть на это иначе. Вы можете сходить в тот ресторан и привести сюда вашего друга Кернера?
– Что толку, Джесси? – зевнул я. – Он ведь вас не видит. Он даже не знает, что вы говорили с ним за столиком. Вы же вымышленное лицо, сами знаете.
– Может быть, теперь увидит. Приведите его, пожалуйста.
– Хорошо, – сказал я. – Но вы, мне кажется, не совсем трезвы, Джесси. Вы как-то расплываетесь, теряете очертания. Смотрите не исчезните, пока я хожу.
Я вернулся в ресторан и сказал Кернеру:
– Там на улице дожидается один старик с невидимой манией человекоубийства. Он хочет тебя видеть. Кажется, он хочет также тебя убить. Пошли. Ты его все равно не увидишь, так что бояться нечего.
Кернер словно бы обеспокоился.
– Черт возьми, – сказал он, – вот не думал, что один стакан абсента может оказать такое действие. В дальнейшем ты лучше держись пива. Я провожу тебя домой.
Я привел его к Джесси Хомзу.
– Рудольф, – сказал Смерть Дуракам, – я сдаюсь. Приведи ее ко мне. Руку, мальчик.
– Спасибо, папа, – сказал Кернер, пожимая руку старику. – Вы об этом не пожалеете, когда узнаете ее поближе.
– Так ты его видел, когда он говорил с тобой за столом? – спросил я Кернера.
– Мы уже год как не разговаривали, – сказал Кернер. – Теперь-то все в порядке.
Я пошел прочь.
– Ты куда? – крикнул мне вдогонку Кернер.
– Иду отдаться в руки Джесси Хомзу, – ответил я сдержанно и с достоинством.
Роман биржевого маклера
Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максуэла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Максуэл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм.
Молодая стенографистка служила у Максуэла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически «помпадур». Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не создавалось такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней сидело простое, серое, изящно и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания.
Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максуэла – достаточно близко, чтобы он мог ее заметить.
Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Взору представал занятый по горло нью-йоркский маклер – машина, приводимая в движение колесиками и пружинами.
– Да. Ну? В чем дело? – резко спросил Максуэл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и суровые, сверкнули на нее почти раздраженно.
– Ничего, – ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой.
– Мистер Питчер, – сказала она доверенному клерку, – мистер Максуэл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?
– Говорил, – ответил Питчер, – он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас десять сорок пять, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась.
– Тогда я буду работать, как всегда, – сказала молодая женщина, – пока кто-нибудь не заменит меня.
И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место.
Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о «полном часе славной жизни». У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках.
А сегодня у Гарви Максуэла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал непрерывным жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер – кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления.
На бирже в этот день происходили ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максуэл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арлекина.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
О небо! (нем.)
2
Под открытым небом (исп.).





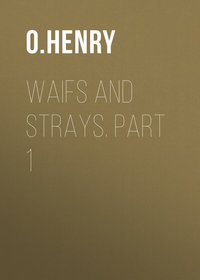
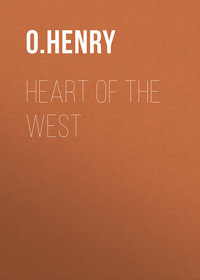
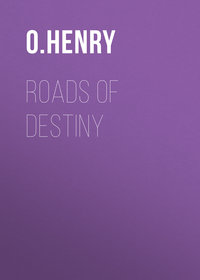
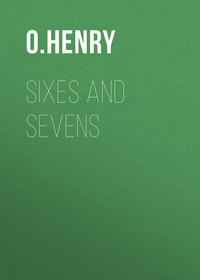
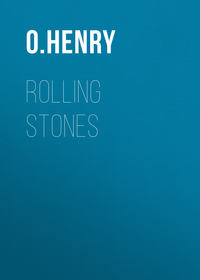
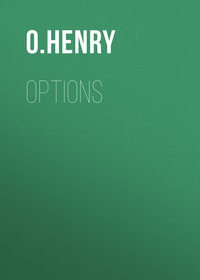

![Heart of the West [Annotated]](/covers_200/25561004.jpg)