
Полная версия
Властитель человеков
Уже у ворот проблеск разума в форме внезапного подозрения закрался в затуманенный мозг Джерри. Что-то он сообразил. Остановил коня, приоткрыл люк и, как свинцовый лот, кинул вниз свой хриплый голос:
– Сперва я хочу получить мои четыре доллара, дальше с места не двинусь. Деньги-то у вас есть?
– Четыре доллара? – мягко рассмеялась пассажирка. – Бог ты мой, конечно, нет. У меня всего несколько центов и две-три десятицентовых монетки.
Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт сгладил, но не заглушил полностью голос, изрыгающий страшные проклятия: задыхаясь, хрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань. Он яростно хлестал бичом встречные экипажи, оглашая улицу все новыми и новыми отборными ругательствами. Запоздавший возчик фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен. Но Джерри знал, где его ждет спасение, и мчался туда галопом.
Он остановился у подъезда с зелеными фонарями.
Рванув дверцу кеба, он тяжело спрыгнул с козел.
– Вылезайте, – сказал он грубо.
Пассажирка вышла – на ее простеньком личике еще блуждала счастливая улыбка, зародившаяся в «Казино». Джерри взял ее за руку повыше локтя и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седоусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и кебмен встречались не впервые.
– Сержант, – начал Джерри своим обычным тоном жалобщика – хриплым, оскорбленным и грозным. – Сержант, вот у меня пассажирка, так она…
Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями МакГэри, начинал рассеиваться.
– Да, пассажирка, сержант, – продолжал он, ухмыляясь, – которую желаю вам представить. Это моя жена, женился на ней нынче вечером – гуляли у ее отца, старика Уолша. Уж так гуляли, только держись, право слово. Ну, поздоровайся с сержантом, Нора, и поехали домой.
Прежде чем снова сесть в кеб, Нора испустила глубокий вздох.
– Я так чудесно провела время, Джерри, – сказала она.
Неоконченный рассказ
Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что Бог – это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, – это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.
Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая. Ни Морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придраться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен.
Я видел сон, чрезвычайно далекий от скептических настроений наших дней, поскольку в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория Страшного суда.
Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади; но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и не похоже, чтобы нас выдавали им на поруки.
Пернатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.
– Вы из этой шайки? – спросил меня полисмен.
– А кто они? – ответил я вопросом.
– Ну как же, – сказал он, – это люди, которые…
Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.
Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет Господь Бог… то есть, виноват, ваше преподобие, Первичная Энергия, так, кажется? Ну, значит, в главной книге Первичной Энергии.
Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо: вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.
Однажды, в шесть часов вечера, прикалывая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживице Сэди – той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:
– Знаешь, Сэди, я сегодня сговорилась пойти обедать со Свинкой.
– Не может быть! – воскликнула Сэди с восхищением. – Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Дэлси.
Дэлси спешила домой. Глаза ее блестели. На щеках горел румянец, возвещавший близкий расцвет жизни, настоящей жизни. Была пятница; из недельной получки у Дэлси оставалось пятьдесят центов.
Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины – лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезывают из вишневых косточек, – оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не удостаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно-белые, с тяжелым запахом лепестки.
Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги, собственно говоря, предназначались на другое: пятнадцать центов на ужин, десять – на завтрак и десять – на обед. Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять – промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!
Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.
Дэлси поднялась в свою комнату – третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел – алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стойким.
Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете силою в четверть свечи мы осмотрим комнату.
Кровать, стол, комод, умывальник, стул – в этом была повинна хозяйка. Остальное принадлежало Дэлси. На комоде помещались ее сокровища: фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэди, календарь – реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюдечке и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.
Прислоненные к кривому зеркалу, стояли портреты генерала Киченера, Уильяма Мэлдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним – ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о плагиатах не нарушали ее покоя; ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.
Свинка должен был зайти за нею в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.
За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов; она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует – ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета – покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты! – стоит шесть центов в неделю, и две воскресных газеты – одна ради брачных объявлений, другая для чтения – десять центов. Итого – четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и…
Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизнь Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписаных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.
О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: Свинка обладал душой крысы, повадками летучей мыши и великодушием кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрели на него с презрением. Это определенный тип, хватит о нем; мое перо не годится для описания ему подобных: я не Плотник.
Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки – все эти свидетельства отречения (даже от обеда) ей очень шли.
На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир.
Девушки говорили, что Свинка – «мот». Значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать эти кушанья подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.
В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов… постойте, постойте… нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там…
Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпней на украденном газе.
– Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, – сказала она. – По фамилии Уиггинс.
Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.
Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусила нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя – принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице, генерал Киченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами.
Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.
– Скажите ему, что я не пойду, – проговорила она тупо. – Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.
Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось, и проплакала десять минут. Генерал Киченер, ее единственный друг, в ее глазах казался идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Киченер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один его взгляд победил Свинку. Да, на этот вечер.
Поплакав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из «Самми». Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу. А потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах.
– Вот гадость, вот наглость! – сказала она вслух. – Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.
В девять часов Дэлси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Киченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.
– Ну и не ешьте, если не хотите, – сказала Дэлси, – и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордый, если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.
Дэлси нагрубила генералу Киченеру, это не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.
В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно – ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Киченером, Уильямом Мэлдуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини.
Рассказ, собственно, так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Киченеру случится отвернуться; и тогда…
Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.
– А кто они? – спросил я.
– Ну как же, – сказал он, – это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?
– Нет, ваше бессмертство, – ответил я. – Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками.
Смерть Дуракам
У нас на Юге, когда кто-нибудь выкинет или скажет особенно монументальную глупость, люди говорят: «Пошлите за Джесси Хомзом».
Джесси Хомз – это Смерть Дуракам. Конечно, он миф, так же как Санта-Клаус, или Дед Мороз, или Всеобщее Процветание, словом – как все эти конкретные представления, олицетворяющие идею, которую природа не удосужилась воплотить в жизнь. Даже мудрейшие из мудрецов Юга не скажут вам, откуда пошла эта поговорка, но немного найдется домов – и счастливы эти дома, – где никогда не произносили имени Джесси Хомза или не взывали к нему. Всегда с улыбкой, а порой и со слезами его призывают к исполнению его официальных обязанностей на всем пространстве от Роанока до Рио-Гранде. Очень занятой человек этот Джесси Хомз.
Я отлично помню его портрет, висевший на стене моего воображения в дни моего босоногого детства, когда встреча с ним частенько мне угрожала. Он представлялся мне страшным стариком в сером, с длинной косматой седой бородой и красными злющими глазами. Я опасался, что он вот-вот появится на дороге в облаке пыли, с белой дубовой палкой в руке, в башмаках, подвязанных ремешками. Возможно, что когда-нибудь я еще…
Но я пишу не эпилог, а рассказ.
Я не раз с сожалением отмечал, что почти во всех рассказах, которые вообще стоит читать, люди пьют. Напитки льются рекой – то это три наперстка виски, которым балуется Дик Аризона, то никчемный китайский чай, которым пытается придать себе храбрости Лайонель Монтрезор в «Дефективных диалогах». В такую компанию не стыдно ввести и абсент – один стаканчик абсента, втянутого через серебряную трубочку, холодного, мутноватого, зеленоглазого, обманчивого.
Кернер был дураком. А кроме того – художником и моим добрым другом. Если есть на свете презренное существо, так это художник в глазах автора, которого он иллюстрирует. Вы попробуйте сами. Напишите рассказ из жизни золотоискателей в Айдахо. Продайте его. Истратьте полученный гонорар, а затем, через полгода, займите двадцать пять (или десять) центов и купите номер журнала, в котором этот рассказ напечатан. Перед вами иллюстрация на целую страницу – ваш герой, ковбой Черный Билл. Где-то в вашем рассказе встретилось слово «лошадь». Художник сразу все понял. На Черном Билле штаны как на лорде, выехавшем травить лисицу. Через плечо у него «монтекристо», в глазу монокль. На заднем плане изображен кусок Сорок второй улицы во время ремонта газовых труб и Тадж-Махал, знаменитый мавзолей в Индии.
Довольно! Я ненавидел Кернера, но как-то мы познакомились и стали друзьями. Молодой и великолепно меланхоличный, он постоянно пребывал на подъеме и столь многого ждал от жизни. Да, он мог стать печален до буйства. Это все молодость. Когда человек начинает грустно веселиться, можно держать пари, что он красит волосы. Кернер обладал пышной копной волос, притом старательно взлохмаченных, как и полагается гриве художника. Он курил папиросы и пил за обедом красное вино. Но главное – он был дураком. И я мудро завидовал ему и терпеливо выслушивал, как он поносит Веласкеса и Тинторетто. Однажды он сказал мне, что ему понравился мой рассказ, который попался ему в каком-то сборнике. Он пересказал мне содержание рассказа, и я пожалел, что мистер Фицджеймс О’Брайан умер и не может услышать похвалу своему произведению. Но такие озарения редко посещали Кернера, он был дураком упорным и постоянным.
Постараюсь выразиться яснее. Тут замешана девушка. Я лично считаю, что девушкам место либо в пансионе, либо в альбоме, но, чтобы не лишиться дружбы Кернера, я допускал существование этого вида и в природе. Он показал мне ее портрет в медальоне, она была не то блондинка, не то брюнетка, уж не помню. Она работала на фабрике за восемь долларов в неделю. Дабы фабрики не возгордились и не вздумали меня цитировать, добавлю, что девушка одолевала путь к этой роскошной плате пять лет, а начала с полутора долларов в неделю.
Отец Кернера стоил два миллиона. Поддерживать искусство он был согласен, но про фабричную работницу заявил, что это уж слишком. Тогда Кернер лишил отца наследства, переехал в дешевую мастерскую и стал питаться на завтрак колбасой, а на обед у Фаррони. Фаррони, наделенный артистической душой, кормил в кредит многих художников и поэтов. Иногда Кернеру удавалось продать картину. Тогда он покупал новый ковер, кольцо и дюжину галстуков, а также уплачивал Фаррони два доллара в счет долга.
Как-то вечером Кернер пригласил меня отобедать с ним и его девушкой. Они решили пожениться, как только он научится извлекать из живописи доход. Что касается двух миллионов экс-отца – очень они ему нужны!
Девушка была прелесть. Миниатюрная, почти красивая, она держалась в этом дешевом кафе так же свободно, как если бы сидела в ресторане отеля «Палмер Хаус» в Чикаго и уже успела засунуть за корсаж на память серебряную ложку. Она была естественна. Особенно я оценил в ней две черточки: пряжка от пояса приходилась как раз посередине ее спины, и она не рассказывала нам, что высокий мужчина с рубиновой булавкой в галстуке шел за ней по пятам от самой Четырнадцатой улицы. Я подумал – а возможно, Кернер не такой уж дурак? А потом прикинул, сколько полосатых манжет и голубых стеклянных бус для язычников можно купить на два миллиона, и решил – нет, все-таки дурак. И тут Элиз – вот, даже имя ее вспомнил – весело рассказала нам, что коричневое пятно на ее блузке произошло оттого, что хозяйка постучала к ней в тот момент, когда она (Элиз, а не хозяйка) грела утюг на газовой горелке, и ей пришлось спрятать утюг под одеяло, а там оказался кусочек жевательной резинки, он пристал к утюгу, и когда она начала снова гладить блузку… я только подивился, каким образом жевательная резинка попала под одеяло – неужели они никогда не перестают ее жевать?
Вскоре после этого – потерпите, сейчас будет и про абсент – мы с Кернером обедали вдвоем у Фаррони. Страдали гитара и мандолина; дым стелился по комнате красивыми, длинными, кудрявыми клубами, точь-в-точь как художники изображают на рождественских открытках пар от сливового пудинга; дама в голубом шелковом платье и вымытых бензином перчатках запела мелодию кэтскилской горянки.
– Кернер, – сказал я, – ты дурак.
– Разумеется, – сказал Кернер, – работать она больше не будет. Этого я не допущу. Какой смысл ждать? Она согласна. Вчера я продал ту акварель – вид на Палисады. Стряпать будем на газовой плите в две конфорки. Ты еще не знаешь, какое я умею готовить рагу. Да, поженимся на будущей неделе.
– Кернер, – сказал я, – ты дурак.
– Хочешь абсенту? – великодушно предложил Кернер. – Сегодня ты в гостях у искусства, которое при деньгах. Думаю, мы снимем квартиру с ванной.
– Я никогда не пробовал… я имею в виду абсент, – сказал я.
Официант отмерил каждому из нас порцию в стакан со льдом и медленно долил стаканы водой.
– На вид совсем как вода в Миссисипи в большой излучине ниже Натчеса, – сказал я, с интересом разглядывая мутную жидкость.
– Можно найти такую квартиру за восемь долларов в неделю, – сказал Кернер.
– Ты дурак, – сказал я и стал потягивать абсент. – Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно официальное вмешательство некоего Джесси Хомза.
Кернер, не будучи южанином, не понял. Он сидел размякший, мечтая о своей квартире как истый деляга-художник, а я глядел в зеленые глаза всезнающего духа полыни.
Случайно я заметил, что процессия вакханок на длинном панно под потолком сдвинулась с места и весело понеслась куда-то слева направо. Я не сообщил о своем открытии Кернеру. Художники парят слишком высоко, чтобы замечать такие отклонения от естественных законов искусства стенной живописи. Я потягивал абсент и насыщал свою душу полынью.
Один стакан абсента – это не бог весть что, но я опять сказал Кернеру, очень ласково:
– Ты дурак. – И прибавил наше южное: – Нет на тебя Джесси Хомза.
А потом я оглянулся и увидел Смерть Дуракам, каким он всегда мне представлялся, – он сидел за соседним столиком и смотрел на нас своими грозными, красными, безжалостными глазами. Это был Джесси Хомз с головы до ног: длинная косматая седая борода, старомодный серый сюртук, взгляд палача и пыльные башмаки призрака, явившегося на зов откуда-то издалека. Взгляд его так и сверлил Кернера. Мне стало жутко при мысли, что это я оторвал его от неустанного исполнения его обязанностей на Юге. Я подумал о бегстве, но вспомнил, что многие все же избегли его кары, когда уже казалось, что ничто не может их спасти, разве что назначение послом в Испанию. Я назвал брата своего, Кернера, дураком, и мне угрожала геенна огненная. Это бы еще ничего, но Кернера я постараюсь спасти от Джесси Хомза.
Смерть Дуракам встал и подошел к нашему столику. Он оперся на него рукой и, игнорируя меня, впился в Кернера горящим, мстительным взглядом.
– Ты безнадежный дурак, – сказал он. – Не надоело тебе голодать? Предлагаю еще раз: откажись от этой девушки и возвращайся к отцу. Не хочешь – пеняй на себя.
Лицо Смерти Дуракам было на расстоянии фута от лица его жертвы, но, к моему ужасу, Кернер ни словом, ни жестом не показал, что заметил его.
– Мы поженимся на будущей неделе, – пробормотал он рассеянно. – Кой-какая мебель у меня есть, прикупим несколько подержанных стульев и справимся.
– Ты сам решил свою судьбу, – сказал Смерть Дуракам тихим, но грозным голосом. – Считай себя все равно что мертвым. Больше предложений не жди.
– При лунном свете, – продолжал Кернер мечтательно, – мы будем сидеть на нашем чердаке с гитарой, будем петь и смеяться над ложными радостями гордости и богатства.
– Проклятье на твою голову! – прошипел Смерть Дуракам, и у меня волосы зашевелились на голове, когда я увидел, что Кернер по-прежнему не замечает присутствия Джесси Хомза. И я понял, что по каким-то неведомым причинам завеса поднялась только для меня одного и что мне суждено спасти моего друга от руки Смерти Дуракам. Объявший меня ужас, смешанный с восторгом, видимо, отразился на моем лице.





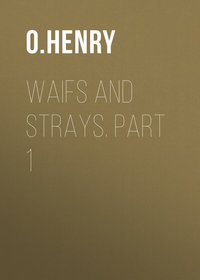
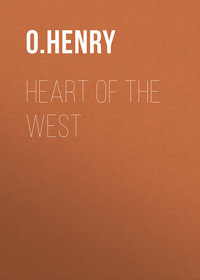
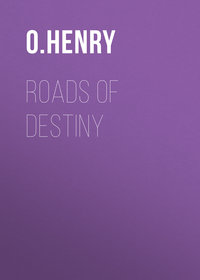
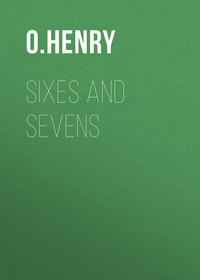
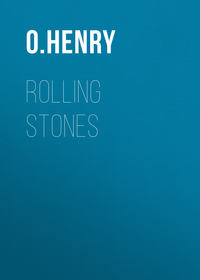
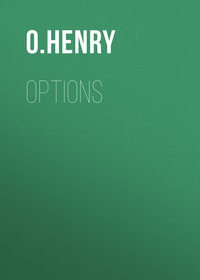

![Heart of the West [Annotated]](/covers_200/25561004.jpg)