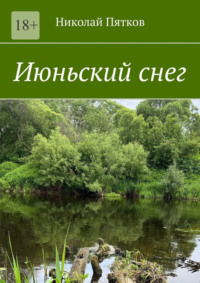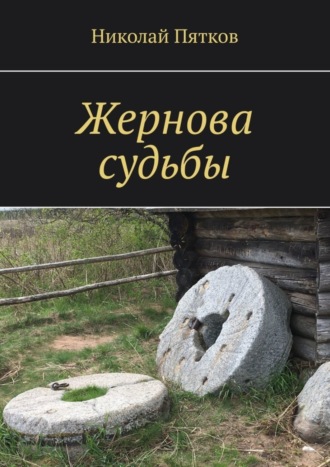
Полная версия
Жернова судьбы
К тому же, каждый раз, когда я ехал туда, я всегда знал, что опять увижусь с Ефимом Васильевичем и мы продолжим наши беседы, которых мне стало не хватать также, как и самой рыбалки.
Я долго не решался вывести его на разговор, из которого мог бы понять, за что же такое ужасное и жутко преступное местный краевед, не желающий слушать возражений, называл его «каторжником»? Действительно, для меня это оставалось загадкой, поскольку никаких видимых причин для этого нелицеприятного ярлыка в образе деда Шишкина, его повседневной жизни и поведении, и даже в речи, обычной для сельского уроженца этих мест, по-своему грамотной и привлекательной, я не видел. Напротив, старик мог бы быть примером того, как надо трудиться: он вставал рано, нередко чуть ли ни силком выгонял меня с восходом солнца на реку, пеняя на то, что я, рыбак, так долго сплю. А мне тогда, и вправду, хорошо спалось на его веранде, поскольку засыпал я после чаев со стариком поздно, с удовольствием читая на ночь прихваченную с собой какую-нибудь книгу или листая найденные под кроватью слипшиеся от времени кипы журналов «Огонек» и «Крокодил» двадцати-тридцатилетней давности.
Сам же Ефим Васильевич был неистощим на поиск занятий для себя и с раннего утра уже кипел работой. Он то пилил, то колол, то что-то тесал, то стучал молотком в хозяйственной пристройке или на «задах». Как-то раз, через несколько лет, когда мы уже тесно сдружились и сблизились, я, приехав, заметил в его дворе сложенные штабелем бревна и услышал стук с «задов». Увиденное поразило меня – дед в одиночку ставил там сруб. Он успел положить к тому времени два-три венца, и, когда я вошел, старик, подперев плечом конец очередного бревна, заносил его для укладки. Я кинулся было помогать, но Ефим Васильевич сурово крикнул мне не мешать: сам, мол, управлюсь. Ему тогда уже было скоро девяносто лет. Я всё же поинтересовался, чем он тут занимается, что строит? Дед пояснил, что собирается поставить на «задах» еще один дом. «Зачем?» – спросил я. «Да вот хотя бы для тебя», – ответил он и тут же ушел от дальнейшего разговора, намеренно, как я понял, занявшись для этого обтёсыванием бревна. Я тогда воспринял его ответ, как шутливую отговорку. Однако он не оставил тему постройки дома для меня и потом постоянно возвращался к ней, говорил, зачем мне искать для покупки избу в деревне, когда есть и тёсанный лес и возможности для возведения дома на его участке, где была подходящая пустошь. Мне, с одной стороны, было радостно – сбывалась мечта о деревенском доме на реке, но, с другой – неловко из-за некоторых обстоятельств, о которых я расскажу далее.
Все остальное «свободное» время летом и осенью он косил траву и заготавливал сено, хотя корову у него в усадьбе я видел только одно лето, да и то, похоже, держал он её тогда не из-за молока, которое, кстати, сам надаивал и делал для себя творог, а ради этой самой косьбы, которую по-крестьянски любил и которая поддерживала в нем поистине молодые силы.
Во все мои приезды общение с ним становилось всё теснее и доверительнее. И не сразу, но постепенно Ефим Васильевич поведал мне свою жизненную историю, которая во многом объясняла и характер старика, и образ его жизни и некоторые особенности в поведении, которыми он, увы!, обладал: неуживчивость, вспышки гнева, подозрительность и даже сварливость, с чем я, как ни странно даже мне самому, в дальнейшем нашем многолетнем знакомстве не только свыкся, но и был готов, при необходимость, брать его такого, каков он есть, под защиту и опеку…
…Он родился здесь в своей деревне в самом начале прошлого века, здесь рос, здесь с малых лет привыкал к деревенскому труду, купался летом с такими же босоногими, как и он сам, мальчишками в омуте или запруде, где на реке крутила колёса и стучала двумя поставами водяная мельница, часто на берегу с завистью смотрел на ловко управлявшихся с мельничным хозяйством мельника и его помощников, а, подросши, искал возможности напроситься на любую работу на мельнице, внимательно прислушиваясь к наставлениям и советам людей знающих и понимающих мукомольное дело, здесь же с ним произошло всё то, что произошло и что сделало его таким, каким он сегодня и являлся.
Отец его был тоже коренной местный житель, но с семьей жил мало, хорошо зная плотницкое дело, больше занимался весьма популярным в этих краях отхожим промыслом, работая то в Москве, то в Ярославле, частенько и подолгу попивал горькую, но был при этом человеком весьма отменного здоровья и в округе был известен своими оригинальными чудачествами и всяким неуместным вздором: например, летом во время ярмарочных дней, проходящих на правом берегу реки, прямо напротив его деревни, выпив, хватал в руки по пудовой гире и, набрав в грудь воздуха, под одобрительные крики и возгласы удивления собравшейся толпы народа переходил по песчаному дну неширокую, но, отнюдь, местами не мелкую – было где и с головой – в среднем течении речку, или любил, также хорошенько выпив, с гиком и раскручиваемым кнутом над головой промчаться, стоя во весь рост в телеге, по деревне, давя зазевавшихся кур, и гнать так лошадей до ближайшего города – а это, ведь, километров тридцать – и там, добавив местной горькой, в тот же день вернуться, также стоя и с гиканьем, домой. О матери своей дед мне практически ничего не рассказывал – что-то его всегда здесь сдерживало. Единственное, что я понял, что была она тихой и забитой женщиной и рано ушла из жизни. Мальчишкой Ефим посещал школу, но не очень долго – научился читать и писать, мог сложить и вычесть – и довольно. Ему хотелось работать, стать самостоятельным и есть свой хлеб. Первая мировая его обошла стороной – он тогда ещё не дорос до призывного возраста, а вот события семнадцатого года, подросши, каким-то образом учуял и оценил для себя, похоже, правильно: они подсказали ему, что что-то должно в той жизни измениться и эти изменения он не должен упустить и просто обязан найти в них своё место.
Молодой и к тому времени уже достаточно ухватистый крестьянский парень не стал встревать в перипетии гражданского противостояния первых послереволюционных лет. «Не лез я в это дело, – говорил он мне. – Смутьяны у нас тут тоже всякие появлялись, бумажки нам всё какие-то совали, да языком трепали. Ещё и друг друга поносили, негодяи. Трудно было понять, что вокруг делается. А мне хотелось просто работать, к мельнице уже тогда очень тянуло!»
В самом начале двадцатых годов, когда бурление того времени относительно утихло и советская власть, отказавшись от тупиковой и опасной для неё же политики «военного коммунизма», объявила о переходе к «новой экономической политике», он понял, что дождался своего часа и, приложив все усилия, сумел взять в аренду лишившуюся прежнего хозяина мельницу на реке. Надо сказать, что на Нерли в те годы было нескольководяных мельниц. Одна из них – самая производительная и к тому же очень удобная для сдатчиков зерна на помол, находилась как раз в его деревне: здесь пролегал наезженный тракт от Волги до самой Москвы через Сергиев Посад с его знаменитой Троице-Сергиевой лаврой, недалеко проходила не менее важная для деловой жизни в этом районе дорога на Углич. Хорошая связь была и с окрестными деревнями и сёлами – некоторые дороги были сделаны на совесть: выложены камнем-булыжником и обнесены канавами и по ним можно было хоть и с неизбежной тряской, но ездить в любую распутицу и непогоду.
Смутное и разрушительное послереволюционное время привело к потере крепкой хозяйской руки, став одной из причин запустения, коснувшееся всего, в том числе и местного мельничного хозяйства, в котором нуждались крестьяне окрестных деревень и сел. Так что Ефим, ещё мальчишкой усвоивший основные азы мельничной азбуки и мечтавший о том времени, когда он и сам станет хозяином и мастером мукомольного дела, без колебаний взялся за это непростое дело. Предприимчивый двадцатилетний паренек сумел в короткое время наладить работу мельницы в своей деревне – и его мукомольные дела пошли на лад. С урожаем в Луки потянулись обозы с зерном – жернова, постукивая, крутились днем и ночью, дневал и ночевал здесь и сам новоиспеченный мельник.
– Мука-то какая была!.. А помол! – старик поднимал к лицу изувеченную руку и тёр большим пальцем об указательный и средний, как бы пробуя на ощупь её сыпучую шелковистость и вдыхая свежий запах первого помола. И настолько его воспоминания были искренни и осязаемы, что мне казалось, я вижу, как мука сыпется сквозь его узловатые пальцы и вместе с ним я ощущаю и ее аромат.
Он беззаветно любил свое занятие, дела его шли хорошо и он смело, не раздумывая, шёл на расширение производства. Окрест заработали ещё две, взятые им в аренду мельницы, были задумки наладить мукомольное дело и на других речках края, но основными оставались эта, в Луках, и еще одна в местечке Хороброво, что километрах в тридцати вверх по течению.
– Как же вы управлялись со всеми ними? Это же большое хозяйство! – удивлялся я.
– А ты знаешь, – приближая свое лицо к моему, хрипло шептал старик, – мне это было в радость, меня даже по ночам тянуло пойти на мельницу. Я шел и в темноте слушал, как она работает, как внутри неё что-то ворочается и стучит, как живое. Вот ты тут сейчас рыбалишь, а какой у тебя улов? – вдруг спросил он меня.
Я неопределенно пожал плечами, потому как считал себя не самым последним рыбаком на этой реке, а в его вопросе чувствовал какой-то подвох.
– А я, – продолжал Ефим Васильевич, так и не услышав моего ответа и не дав свою оценку моим уловам, – бывало, руками вылавливал попавших в мельницу сомов. Его тащишь домой через плечо, а он хвостом по земле за тобой метёт. Во, какие были сомы здесь! А рыбы-то сколько в реке было! Пропасть! Да вся крупная попадалась! Не то, что нынче. Все поломали, все загадили!
Дед в тоске замотал головой, переживая за сгинувшую чистоту и богатство родной ему реки, но тут же продолжал, вскинувшись в ином радостном воспоминании:
– А народу-то сколько наезжало ко мне! Отовсюду ехали. Из дальних деревень тоже зерно везли, ценили мой помол. Дорога к омуту мощенная камнем была, по ней подводы так и шли вниз и вверх. И по той стороне реки тоже дорогу миром проложили каменную аж до Дедюрёво. Там же на том берегу у начала дороги раньше стояла усадьба мельника, рядом с ней пристройка, а в ней трактир. Мужики, бывало, сдадут зерно на помол и в трактир, перекусить да выпить немного – но пьянства никакого не было, этого никто не допускал, а выпивали так, для отдыха и разговора. Больше-то чай пили, помногу и подолгу, да с баранками!
И верно, спускаясь по заросшей тропинке к омуту, я видел меж травы и ощущал под подошвами сквозь мягкость земляного покрова остатки этого каменного дорожного покрытия – тут и там среди зелени блестели лысины потертого булыжника. Разыскал я следы такой же дороги и на другом берегу – она за много лет заросла уже не только травой, диким бурьяном и чертополохом, но и лесом. Нередко оттуда, я видел, спускались к реке на водопой косули, а иногда выходили и величавые лоси. Теперь от усадьбы тогдашнего мельника на том берегу осталась только едва различимая в переплетении высокой в рост человека крапивы и запутанного кустарника яма и на её краю рухнувшая огромная ветла. На чёрные остатки ствола погибшего векового дерева, торчащего над этим непролазным зелёном буйством, любили садиться сварливые вороны и трескучие в своей неуемности сороки.
– Отец был жив, так мы с ним, да с мужиками мост наплавной каждое лето здесь наводили. Весной его, бывало, льдом да водой бурной снесет, а мы снова по теплу к лету ставим да плотину правим – ей тоже доставалось от ледохода и весеннего потока. И опять все ко мне! Ведь это ж праздник!
Следов этих временных средств переправы я не нашел. Правда, переходя в забродном костюме речку перед омутом, видел на дне меж гряды валунов в самом глубоком здесь месте занесённые желтым песком чёрные брёвна – возможно, от того самого мужицкого артельного сооружения. Или же то были следы леса, сплавляемого в ещё более давние времена по реке с её верхов до самой Волги.
Заодно нашлось объяснение и двум замеченным мной за деревней явно рукотворным пологим холмам. Сглаженные временем и скрытые в прибрежных зарослях они ровно смотрели друг на друга с противоположных берегов. В середине июня поросшие травой склоны этих холмов краснели от поспевающей земляники, а на солнце в мелкотравье любили греться змеи, которых здесь хватало, но я привык к ним, да и в сапогах было небоязно. Заречный холм был моим излюбленным местом, где я добывал большого кузнечика – «зеленую кобылку» – первейшую наживку для крупного голавля. Я как-то поинтересовался у старика, что это за насыпи и откуда они взялись на реке.
– А это мост Керенского, – прохрипел в ответ Ефим Васильевич.
– Керенского? – удивился я, услышав это имя здесь. – А причём здесь он? – спросил я и из пояснения Ефима Васильевича узнал, что в тот короткий отрезок времени семнадцатого года Временное правительство во главе с незабвенным Александром Федоровичем, оказывается, находило возможность заниматься делами вполне будничными и земными, в частности, обустройством сельских районов и созданием там, выражаясь современным языком, инфраструктуры, необходимой для их развития и функционирования. Вот тогда-то и приступили здесь к строительству моста, который вкупе с действующей мельницей ещё больше оживил бы местную деловую жизнь. Чем не разумное решение? Но не успели. Октябрь того же года все смешал. А жалко! Наверняка было бы крепкое, добротное сооружение, которое много лет служило бы людям – может быть и по сегодняшний день. А нынешний безликий бетонный мост построили уже в наше время, но на другом конце деревни и дороги к нему с той и другой стороны, практически, нет – так, одни ямы и ухабы убийственного для автотранспорта проселочного грунтового пути.
Вот так неожиданно для меня всплыло в конце двадцатого века в деревенской избе деда Шишкина имя неординарного адвоката из Симбирска, добравшегося, пусть и ненадолго, но всё же до хозяйского положения в Зимнем дворце и России.
Вообще меня удивляло в Ефиме Васильевиче то, что он запросто оперировал именами и фамилиями людей, которые вполне и даже иногда заслужено могут быть отнесены к категории личностей, оставивших тот или иной по своей глубине и значимости след в истории нашей страны. Я понимал, что с некоторыми из них он жил в одно время, с другими же даже непосредственно пересекался, и для него они вовсе не были какими-то «историческими личностями» и потому упоминал и говорил он о них без всякого придыхания, восторженности или, напротив, пренебрежения и, может быть, злости.
Меня, в этой связи, позабавил один разговор с ним на «писательскую» тему.
Задумал я как-то побывать на озёрах и болотах за лесной речкой Вьюлкой, что протекает извилистым ужом в нескольких километрах севернее деревни, хотел для разнообразия порыбачить и там. Зная, что напрямую туда проехать очень трудно, спросил Ефима Васильевича, как лучше мне добраться до этой речки.
– Поезжай через Спас-Угол. Ну там, где усадьба Салтыкова-Щедрина, – ответил старик, произнося при этом вторую часть фамилии писателя с ударением на букву «е» в первом слоге, – и, пытливо взглянув на меня, спросил, – знаешь такого? Так самой-то усадьбы сейчас нет – сломали, ничего не осталось, только церковь и стоит, – он обреченно махнул рукой, – и в конце деревни свернёшь налево.
Разумеется, я ответил, что очень хорошо знаю, кто такой Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, люблю этого писателя и читал чуть ли не все его произведения. При этом я умышленно подчеркивал ударение на букву «и» в псевдониме писателя, и без всякого умысла добавил, что именно так произносится фамилия его знаменитого земляка.
– Ты меня не поправляй! – вскинулся обиженно Ефим Васильевич. – Тамошних помещиков Салтыковых тут до революции все хорошо знали. Самого-то Салтыкова-Щедрина уже давно не было в живых, а поместье его брату принадлежало. Я от своего отца слышал, что многие тамошние крестьяне судились с братом его по каким-то земельным делам – он всю пашенную себе прибрал, а им болот да пустошей нарезал. Мужики, мол, плевались, говорили, что дрянь человек, потому как плутоватый и вороватый тот был.
Меня это смутило, и я попытался защитить родственников нашего замечательного писателя, говорил старику, что, мол, Бог бы с ним, с его братом, ведь я же только о самом писателе и его литературном псевдониме говорю. Да и как-то сомнительно, утверждал я, чтобы у Салтыкова-Щедрина, обличавшего пороки тогдашнего российского общества, были такие вот нелицеприятные родственники. Но старик горячился, был непреклонен, отвергал все мои доводы и ссылки, и, наконец, поставил точку в этой литературоведческой дискуссии в засиженной летними мухами деревенской кухне своей обычной оценкой, но на этот раз данную старшему брату классика: «Негодяем он был!»
Через много лет после того разговора довелось мне прочитать один любопытный исторический документ, в котором говорилось, как негативно ещё при жизни относился сам писатель к своему старшему брату, владельцу родовой усадьбы в Спас-Угле, пеняя на его жадность и несправедливое отношение к местным крестьянам, лишенных его «стараниями», в частности, хороших пахотных земель. Там же утверждалось, что в итоге в одном письме кому-то из своих близких друзей Михаил Евграфович самолично заклеймил своего братца «негодяем», и, более того, утверждал, что это он его изобразил в лице Иудушки в романе «Господа Головлевы».
Вот уж, действительно, не знаешь, где найдёшь!..
В середине двадцатых годов мельничное хозяйство Ефима Васильевича, встав на ноги, ещё более окрепло и это открывало для него, как предпринимателя, широкие и довольно заманчивые перспективы. Оправившиеся после удушающих лет продразверстки крепкие крестьяне-хозяйственники, которых мы больше знаем по закрепившемуся за ними и впоследствии ставшем негативным ярлыку «кулаки», отвечая на предоставленные им возможности НЭПа, активно разворачивали своё сельскохозяйственное производство, за ними тянулись и так называемые «середняки», делавшие всё, чтобы вырваться из порочного круга бедности и разрухи. Посевы зерновых увеличивались, урожаи росли, работы на мельницах Ефима Шишкина прибавлялось ото дня на день.
– Отец-то с вами тоже на мельницах работал? – спросил я его.
– Да, поначалу помогал, конечно, – как-то нехотя ответил старик – Больше по плотницкой части. Мельница-то все время ухода да ремонта требовала, особенно после зимы и весны. Но он, я же тебе говорил, попивать любил горькую. И ничего я поделать тут не мог! А потом отец взял и помер разом, вот так вот, – дед пригладил покалеченной ладонью свои редкие волосы на голове, что он обычно делал, когда что-то его беспокоило или волновало, и вдруг, взглянув на меня с какой-то даже веселостью, махнул той же рукой и добавил, – да ладно, давно уж это всё было, чего вспоминать! Мельницы у меня продолжали работать, помощников я себе хороших нашёл. Люди всё были трезвые, работящие.
– Тоже молодые, как и вы тогда?
– Всякие работали: и молодые, и в годах которые, но меня почитали как и положено почитать хозяина. Да многие и в нашей и в других деревнях также ко мне уважительно относились – по имени и отчеству величали, хоть я и молодой был, знали, что я – первейший мельник в округе. А деревня-то наша какая тогда была, – старик, причмокивая от удовольствия воспоминаний, покрутил ладонью перед своим лицом, – богатейшая! Это нынче здесь, кроме магазина ни хрена нет, да и в самом магазине тоже ни хрена, а в те-то годы, помимо трактира, были у нас и постоялый двор, и чайная, и бараночная. Знаешь, какие баранки делали! Да с чаем их! А на том берегу реки у нас были покосы любо-дорого, это сегодня он весь лесом порос без хозяйской руки, а ведь там ярмонки проводились – народу-то сколько со всей округи и из дальних мест наезжало сюда с товаром! Всё можно было купить! И праздник был. Парни на гармониках как взыграют, а девки пляшут да поют. И я молодым парнем, как ровня, брал свою гармошку и со всеми туда ходил, ох и весело бывало!
За прелыми кожухами и одеждой, сваленными на сундуке, виднелись меха гармошки.
– Играете? – спросил я его.
– Могу, – ответил старик, – но она, видишь, поломалась – меха разошлись. Да и не та эта гармонь!
Гармонь, действительно, была не та – виднелась фабричная марка чего-то советского, – но тоже повидавшая виды, со стертыми от игры желтоватыми пластмассовыми кнопками.
– А что, Ефим Васильевич, – поинтересовался я, – в других-то местах здесь так же хорошо жили, как в Луках?
– По-разному. В Луках тоже не все хорошо жили, бездельников хватало. Вот ты в Калязин ездил, – вдруг спросил он, – так? Какие деревни проезжал, помнишь?
– Конечно, помню, – и я назвал несколько деревень вдоль шоссе.
– Так вот в каждой деревне, – поднял скрюченный палец старик, – было своё дело. Где валенки валяли – вон, в Поречье и Василёво, а где лён сеяли, да сдавали его на фабрику в Калязине, лён-то наш славился, другие отхожим промыслом занимались, на заработки уходили в ту же Москву или в Ярославль. Так исстари здесь повелось. А коли ты не пьяница и с головой, то нечего было и жаловаться, только работай! Вон, – дед нагнулся и вытащил из-под кровати валенки, помял их в руках, – видишь какие? Попробуй-ка их на ощупь, – он протянул мне один.
Чёрный валенок был неношеный и очень мягкий из-за тонко свалянного войлока. Я обратил на это внимание Ефима Васильевича, не понимая, почему это так, поскольку считал, что, чем толще войлок, тем теплее. И не угадал.
– Да потому что те, которые сейчас на фабриках машинами делают, не валенки, а дрянь. Вручную их надо валять, вот что, а не машинами всякими. Ручной-то работы они вот какими должны быть! А ты «толще-лучше»! – Он ещё раз продемонстрировал мне мягкость своей войлочной обувки и вернул её под кровать. – И мастера должны этим делом заниматься. А где они нынче?
– Ну, а ваши валенки? Они-то откуда?
– А у меня есть один знакомый из прежних мастеров, в годах уже человек, тут в районе живёт, так он дома валяет. Если тебе нужны, я попрошу, он сделает – и зима тебе нипочём!
Я представил себя идущим зимой в валенках на работу в своё министерство и, поблагодарив, сказал, что, мол, как-нибудь в другой раз.
Ложась спать после этого разговора, я вспомнил пока ещё не часто встречающиеся цветущие в июне голубые поля льна вдоль шоссе, виденные мной небольшие валяльные мастерские в соседних сёлах, и думал, что не всё ещё, наверное, потеряно и погублено, что есть ещё надежда на возрождение традиционных промыслов в этом крае. И хорошо, что не перемололи здесь жернова прошлых лет ту породу людей, которые не просто живут своей мечтой, но и добиваются её осуществления. С тем и уснул…
…А мечты и планы молодого, полного стремлений мельника Ефима Шишкина рухнули в один момент в двадцать девятом году, когда его арестовали и осудили.
К тому времени руководство страны, взяв курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию, начало сворачивать НЭП – с «кулаками» и «мироедами» поэтому надо было покончить.
Историю моей страны я знаю, знаю все те ее беды и радости, что пришлись на долю поколений моих дедов и родителей, но вот за кухонным столом деревенской избы сидел напротив меня, шумно потягивая чай из блюдца, человек, который, похоже, знал об этом не понаслышке, а из собственного опыты.
Разумеется, я ждал этого разговора, поскольку не забывал про клеймо «каторжника», которое так легко припечатал к старику тот безапелляционный краевед и дачник из соседней деревушки, и поэтому не мог не спросить моего собеседника, за что же его так вдруг взяли и арестовали и в чем обвинили.
– За несдачу гарнцевого сбора, – поначалу буднично, не переставая пить чай, сделав небольшую паузу, чтобы добавить из заварочного чайника с щербинками на краю носика-хобота, ответил он, а потом, немного помолчав и с бряцанием отставив от себя чашку с блюдцем, вдруг неожиданно для меня, приподнявшись над столом и наклонившись ко мне, хрипло прокричал, – но я не был виноват! Ты понимаешь, не было моей вины! А меня в тюрьму к уголовным. За что!?
Со временем я свыкся с тем, что в минуты воспоминаний об аресте и утверждения в своей невиновности – а к этим темам он возвращался постоянно – старик приходил в такую ярость, что я даже побаивался за него – все-таки не молодой, как бы чего не случилось. В его горячей и не совсем поэтому понятной для меня речи – он как будто спешил выговориться – смешивалось в такое время все: и мука небывалого помола, и ночи на мельнице, и какие-то «бобыли», и эти «негодяи» (любимое гневное слово старика, хотя он, бывало, в мгновения ярости вставлял и более крепкие выражения, явно впитавшиеся в него в местах заключения, но, надо сказать, очень и очень редко и не злоупотреблял этим вокабуляром).
В то время я не имел никакого понятия о мельничном деле и таких специфических тонкостях, как этот пресловутый «гарнцевый сбор». Не поленившись, я порылся в справочниках и узнал, что это уплата крестьянами мельнику за работу частью сданного на помол зерна. Так вот эту часть – до десяти процентов – ещё со времён военного коммунизма мельникам запрещалось оставлять себе, но надлежало сдавать органам Народного комиссариата продовольствия по так называемым комиссионным ценам, то есть, практически, за бесценок. Собранное таким образом зерно, говорили справочники, шло на «обеспечение государством хлебом городского населения и деревенской бедноты». Конечно, собственников или арендаторов мельниц такая политика властей никак не устраивала, поскольку с учетом других налогов и сборов ведение, а тем более расширение мельничного дела зачастую становилось не просто невыгодным, но и убыточным. Как следствие, то там, то здесь мельницы начали закрываться по инициативе их владельцев. Государство расценило это как саботаж, и в 1928 году правительство ввело административное и уголовное наказания за несдачу гарнца, а тех, кто уклонялся «злостно», то есть умышленно шёл на закрытие своих предприятий, ждало не только суровое – до шести лет – уголовное наказание, но ещё и конфискация мельниц.