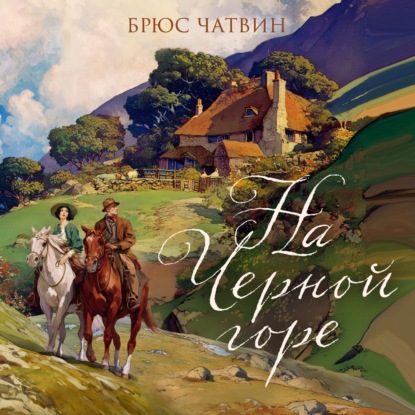Полная версия
Нежность
Какие мы были живые! Теперь я это вижу. Тогда мы не подозревали, что жизнь может быть какой-то иной, в нашей мы только жили, жили и совершали открытия, постоянные открытия нового. Нам и в голову не приходило, что жизнь может так… сузиться.
Она поворачивается к нему, пожимая плечами – словно отбрасывая что-то.
Он не в силах вообразить себе такую жизнь.
Точнее, способен ее только воображать.
– Вероятно, мы были избалованы, – говорит она, словно выпуская на волю его мысль.
– Вы были любимы.
– Да. – Она снова обращает лицо к небу. – Была. Когда-то. Конечно, до войны все было возможно.
Она ускоряет шаг. С тропы прыскают в разные стороны кузнечики.
– Я встретила своего будущего мужа – официально он до сих пор мой муж – на одном из музыкальных вечеров у дяди Джорджа в Хэмпстеде. Годвин был студентом-медиком, стажером в больнице Святого Варфоломея. У него дивный голос, почти профессионально поставленный. Он пел Зигмунда, а я кое-как осиливала партию Зиглинды. Он блистал. Во всем, что делает Годвин, он как юный бог. Он на голову выше окружающих – в буквальном смысле, в нем шесть футов четыре дюйма[10], – и все его обожают.
– Ты тоже его обожала?
– А как же иначе? Он был громовержцем… Он состоял в сборной Кембриджа по гребле, и его команда дважды побеждала на соревнованиях, обойдя и Оксфорд, и Гарвард. Он представил меня своим кембриджским друзьям,щеголявшим не только модными брюками, но и непримиримыми взглядами52, как «отпадную красотку». Мне это льстило и вместе с тем претило. Я немедленно закатала волосы в узел, что мне совершенно не шло, чтобы стать похожей на средневекового мальчика-пажа. Годвина это ничуть не охладило… Как-то снежной ночью в Хэмпстеде мы катались на санках – в смысле, вся наша компания, – а потом он проводил меня домой. По дороге нам преградил путь огромный бескрайний сугроб, и Годвин попросту взял меня на руки, пронес остаток пути и сгрузил у отцовской двери. Теперь мне кажется, что этот путь домой решил мою судьбу.
– Ты его любила.
– Я определенно в него влюбилась. Он очень сильная личность, и меня он поглотил полностью. На самом деле он не виноват, что не мог… юные боги просто не умеют… А потом, когда Бриджет уже училась ходить и я уже ожидала Хлою, он нас бросил – ушел на фронт. Понимаешь, его не призывали. Врачей не брали – они требовались в тылу, так что ему совершенно необязательно было уходить. Но он искренне верил во всю патриотическую дребедень. Меня это до сих пор бесит. Столько молодых. Золотых сердец. И для чего? Чего добились? Что спасли? Но Годвин никогда не был проницателен. Он просто кидается на все, что его привлекло. Как ни прискорбно, это относится и к медсестре, которая работала у него – в клинике у нас на дому, в Уисбеке.
«Может, именно тот, кто по виду один как перст, и способен на настоящую преданность, – заметила Конни. – А все остальные как липучки. Легко приклеиваются к кому попало»53.
– Его многие искушали, но именно то, что происходило у нас дома, я переносила особенно тяжело. Я слышала, как они возятся в кладовой, где якобы занимались переучетом лекарств. Они выходили оттуда раскрасневшиеся, хотя в кладовой было прохладно. Через несколько недель я завела привычку заглядывать в кладовую и просить их достать мне оттуда масло или окорок… Однако, несмотря на собственные интрижки – как с женщинами, так и с мужчинами, – он оставался ревнивцем и отказывался даже думать о разводе. Видишь ли, – она закатила глаза, – он меня обожал и не желал отдавать никому другому. В каком-то смысле Годвин, несмотря на весь свой героизм и врачебные достижения, ужасно тупой.
Она улыбается мимолетно, проблеском. Потом смотрит на гостя, читает его лицо и отводит взгляд, словно сказала лишнее.
Она поворачивает назад раньше времени, и они без слов входят в Виллино Бельведере. Дом дышит вместе со спящими детьми. Она проверяет, как они там, и он чувствует – пора уходить. Она провела границу.
Но нет, случилось чудо. Она возвращается в гостиную и жестом – одним плавным движением руки – приглашает на балкон, в свет фонаря, в трехстах футах над Флоренцией. От ее волос пахнет краской и луком. На балконе они вглядываются в ночь, и звезды содрогаются.
Он говорит:
– Мне кажется, что можно совершенно отлепиться от Англии, от всего своего прошлого. Что можно никогда не возвращаться, никогда не захотеть вернуться.
Конни, типично для представительницы привилегированного класса, цеплялась за клочки старой Англии. Ей понадобилось много лет, чтобы понять: старой Англии больше нет, ее вытеснила новая, ужасная и отвратительная…54
– Я тоже так иногда чувствую, – тихо говорит она. – Чаще я лелею надежды, но в последнее время, даже после перемирия, не могу стряхнуть какое-то смутное отчаяние. Я, в общем-то, счастлива, но живу с этой колоссальной настороженностью. Я ее не понимаю. По большей части я как оглушенная.
Перемирие – это не более чем временное прекращение огня, печально говорит он. Поэтому ее чувства вполне естественны. Напряженность возрастает, говорит он, а политиканы подливают масла в огонь, раздувая страхи и обиды. А сколько людей выжили и вернулись лишь для того, чтобы пасть жертвой инфлюэнцы. Его и ее родная страна, «зеленой Англии луга»[11], стала мрачным обиталищем призраков.
Англия, моя Англия! Но которая же моя?55
Завтра ему исполняется тридцать пять. Она, помолчав, говорит, что у нее завтра седьмая годовщина свадьбы. Ночной воздух подвижен. Лампы дымят. Она говорит, что ей недавно исполнилось двадцать девять. Свобода – одно дело, но она никогда не ожидала, что станет одной из женщин, ведущих «беспорядочный образ жизни». Впрочем, она понимает, что и упорядоченности никогда не жаждала.
Они стоят на балконе, клонясь вперед, через балюстраду, соприкасаясь плечами.
Поймай нить. Распусти год, день, миг.
Десятое сентября тысяча девятьсот двадцатого года.
адог оготацдавд тосьтявед ачясыт ярбятнес еотясеД
Петля за петлю. Стежок на стежок.
Вот так.
Флоренция на равнине под ними темна – огни погашены. Они сидят бок о бок на садовом диванчике, на балконе. Дымятся красные герани.
Она берет красивую старинную шаль,изумрудно-зеленую шаль56, которую, как сообщает ему, купила за полкроны на Каледонском рынке в Лондоне вскоре после свадьбы. Она приподнимает ноги в замшевых домашних туфлях57 и водружает на диванчик. Он тянется руками и кладет ее ступни себе на колени. Прикрывает ладонями ее озябшие лодыжки. Бутылка марсалы – с опивками на дне – стоит на столике рядом.
Она поднимает руку и кладет ему на голую шею, сзади. На нем рубашкатонкой фланели, цвета сливок58, без воротника. Она ощупывает кончиками пальцев его волосы и замечает, что он оброс – уши полностью закрыты. Она смеется:
– Какой лохматый. Когда ты последний раз стригся?
Он не помнит.
– Я завтра обкорнаю их кухонным ножом.
– Не говори глупостей, ты себе шею порежешь.
Она оценивает длину волос – существенно ниже выреза рубашки. Многие парикмахерские во Флоренции до сих пор закрыты – угроза инфлюэнцы еще не миновала. Розалинда весной сама заразилась, но Айви, добрая душа, присматривала за детьми и беспрестанно таскала ей холодные компрессы и соки. Инфлюэнца уносила большей частью мужчин, здоровых молодых мужчин в расцвете сил. Конечно, он бережется. Он уже раз болел и выжил – удивительно, учитывая, что легкие у него и до войны были слабы. Поговаривают, что инфлюэнцей можно переболеть дважды и даже трижды.
Мгновение странно длится – мост исчезает в тумане.
– Я могу тебя подстричь, – наконец говорит она. – Я всегда стригла отца, когда он надолго застревал в мастерской.
Прикосновение к шее будто пронзает его насквозь.
– Почему бы и нет, – говорит он.
В темноте, за краем светлого пятна, скрипит козодой.
Она возвращается с ножницами для вышивания и фланелевым полотенцем и принимается щелкать. Движения спокойны, методичны. Сначала она рассматривает его спереди и сзади, поднося лампу поближе. Ему спокойно, безопасно, будто он вернулся в детство и сидит на кухне у матери, в «хорошей» рубашке, прикрытой полотенцем, чтобы не испортить.
Наконец Роз проводит ладонью по его голове, собирает полотенце и обрезки волос, отряхивает его своей шалью. Прохладный воздух овевает шею – такого утонченного удовольствия он не испытывал много лет. Он жаждет повернуться к ней и схватить ее в объятия, но только, дождавшись, пока она снова сядет, снова кладет ее ступни себе на колени.
– Поздравляю с днем рождения, авансом, – говорит она. – У тебя теперь подходящий щегольской вид.
– Да уж, черепахи меня не узнáют.
За стеной вскрикивает во сне младшая девочка, Нэн. Роз поворачивает голову, прислушивается – что-то плохое приснилось – и выпрямляется, готовая пойти к ребенку.
«Останься, – мысленно заклинает он. – Не шевелись».Его мучило ощущение своей незавершенности, одиночества. Его тянуло к ней. Коснуться бы…59
Девочка затихает, и мать снова опускается в недра дивана. Волшебство осталось ненарушенным. Она кивает подбородком, указывая на левую щиколотку, которую он все еще бережно прикрывает ковшиком ладони:
– В детстве меня туда укусила змея. У меня был страшный жар, и бедные родители до смерти перепугались.
Словно нет ничего естественней, он склоняется и касается губами укушенной лодыжки, будто желая высосать последние остатки вредоносного яда. Затем снимает с нее туфельки, смотрит в лицо и видит встречный блеск глаз.
Она едва заметно вжимает пятку ему в колени, и он чувствует, что твердеет. Рука слепо шарит – вверх, через колено, под платье, вдоль роскоши бедра, туда, где мягкомягкие каштановые волосы60 влажные шелковистые лепестки роза роз плодоносная раскрытая роза61.
Каждое сердце имеет право на собственные тайны.
– Я люблю тя, – бормочет он. Это его прежний говор, из его родных мест. – Так сладко быть с тобой, сладко тя касаться.
Я люблю тя. Так сладко быть с тобой, сладко тя касаться62.
Неблагонадежный элемент
iЧитатели – тоже хранители тайн: листают беззаконные страницы, делают опасные выводы. Сердце бьется чаще. Что-то взрывчатое тикает между строк. Подглядывающий резко втягивает воздух: беззвучная вспышка узнавания. Все это время его или ее лицо бесстрастно, даже непримечательно, потому что читатель, как любой другой неблагонадежный элемент, ведет тщательно замаскированную двойную жизнь.
Она уже собиралась уходить, когда вспомнила. Ночью ей снилась Констанция Чаттерли.
На двенадцатом этаже «Маргери», в пустой семейной квартире, она снова осмотрела себя в зеркале, принадлежащем свекрови. Новый, достойно выглядящий наряд: платье-рубашка из шелка-сырца кораллового цвета, до колен. Она скользнула в жакет такого же цвета, еще раз попыталась защелкнуть сумочку и натянула белые перчатки длиной три четверти.
– Святые угодники, неужто вам не страшно ехать одной? – спросила миссис Клайд, экономка-шотландка, работающая в семье уже многие годы.
– Ничуточки.
Прежде чем покинуть дом на Ирвинг-авеню, она попыталась сочинить легенду, чтобы побудить миссис К. уложить вдобавок ко всему остальному плащ-дождевик, простую шерстяную юбку, блузку и удобные для ходьбы туфли. Тогда ей осталось бы только проскользнуть в ресторан Шрафта на Западной Тринадцатой улице, рядом с Центральным парком, и незаметно переодеться в дамской комнате.
Но поездка планировалась всего на сутки, и как объяснить необходимость дорожной одежды и плаща в городе? В семье никто никогда не укладывал вещи самостоятельно. На этот счет существовали протоколы, восходившие еще к тем временам, когда они ездили все вместе, сопровождая отца – сотрудника посольства. И еще она обещала и миссис Клайд, и мужу никуда не ходить в одиночку. Она должна запомнить, что больше не анонимна, сказал он тогда, вонзая зубы в поджаренный хлеб с сардинками, а миссис Клайд смотрела сверху вниз, улыбаясь.
Она тогда чуть не ответила, что никогда и не была анонимной. Никто не анонимен, только кажется таким со стороны. Но она знала, что сердита – злится, что выбор собственной одежды не совсем в ее власти, – и, конечно, понимала, что имеет в виду муж.
Когда она была девочкой, распорядительницы-хостессы в ресторане Шрафта носили длинные одеяния и словно плыли, а не шагали вверх по закручивающейся лестнице ресторана, мимо фресок в стиле ар-нуво – женщин, оплетающих волосами рог изобилия. В отрочестве ее первым взрослым приобретением стал ланч у Шрафта – назавтра после выпуска из Фармингтона, в июне сорок седьмого, по возвращении в Нью-Йорк.
У нее были деньги на карте, подарок отца. Она заказала филе камбалы в креольском соусе, а на десерт – «Плавучий остров» из заварного крема. Возможность выбрать из меню была роскошью, поесть в одиночку – тоже. В Фармингтонской школе ни за что не подали бы такой десерт – разве что девочкам, сидящим за столом для худых. За столом для толстых сервировали полную противоположность – пареный чернослив или еще что-нибудь столь же неаппетитное, а остальным разрешали пудинг из тапиоки, имбирную коврижку с яблочным соусом или черничный коблер. Здоровая еда для подвижных растущих девочек.
Тогда в ресторане она изучала элегантных женщин всех возрастов, без спутников, в хорошо сшитых костюмах и шляпах – обычная обеденная клиентура «Шрафта». Кое-кто из них читал, отправляя в рот курицу в соусе бешамель. Другие сверялись с адресными книжками и что-то записывали белыми перламутровыми ручками. Третьи мечтали, глядя на улицу сквозь блестящее зеркальное стекло, или занимали угловой столик и курили, хладнокровные, как шпионки. Еще они иногда встречались глазами с мужчинами, которые шли мимо, распахнув плащ навстречу июньскому теплу или залихватски перекинув через плечо снятый пиджак.
В сорок седьмом война, конечно, была еще свежа в коллективной памяти, и тех, кто пережил ее в расцвете лет, тогда можно было узнать по особому выражению лица: трудноопределимое понимание, ненаигранный, непринужденный лоск, умудренная небрежность. Знойный, циничный взгляд на новую жизнь в стране, царстве официальной послевоенной бодрости.
Еще эти лица – черный блеск зрачков, манера бросить взгляд искоса и помедлить – наводили на мысль, что их владельцы не боятся риска или даже пристрастились к нему. Конечно, многие из них пришли с войны, из каких-нибудь ее особо неприятных уголков, лишь для того, чтобы сесть на мель нового социального порядка, воцарившегося на рубеже пятидесятых. Теперь все обязаны были «играть в домик» и, более того, получать от этого удовольствие. Разглядывая хорошо одетых посетителей «Шрафта» из-под прикрытия «Плавучего острова», девочка чувствовала, что наблюдает за тайным, организованным движением сопротивления.
Теперь, всего двенадцатью годами позже, этот тип женщин почти исчез, и она не могла не чувствовать, что родилась слишком поздно. Она, конечно, любила маленькие житейские удобства, да и кто их не любит, но знала: она прекрасно вписалась бы в Париж военного времени, где продукты и уголь были по карточкам, зато открывались неограниченные, захватывающие возможностибыть и действовать.
В фармингтонском выпускном альбоме сорок седьмого Джеки написала, что ее главное стремление в жизни – «не быть домохозяйкой». А сейчас Джек уже нацелился на Белый дом и уже неофициально подыскивал людей в избирательный штаб. Если на следующий год он объявит о своих намерениях и если победит, она станет первой леди (или первой домохозяйкой, как она про себя окрестила эту должность) Америки. Она ненавидела этот титул. Он звучал как «призовая кобыла». Когда-то она собиралась стать журналисткой и писать материалы для журнала «Нью-Йоркер». А теперь сама стала материалом для прессы.
Два года назад Пэт Никсон – она как жена вице-президента носила титул второй леди (ужасно, хуже не придумаешь) – получила звание «Идеальная домохозяйка Америки». В 1953 году она завоевала еще и титул «Мать года». Рассказывали, что ей в самом деле нравится гладить рубашки и костюмы мужа – тихими вечерами, дома. Она, Джеки, никогда в жизни не сможет конкурировать с такой женщиной. И никогда в жизни не захочет.
В тот день у Шрафта ей принесли счет вместе с миниатюрным серебряным ковшиком лимонного шербета и мятной зубочисткой на белой фарфоровой тарелке. Счет потянул на 95 центов. Она едва наскребла денег на чаевые.
Кровать в «Маргери» была необъятной. Ночью Джеки дрейфовала в ней, как в Мертвом море. Одиночество было и непринужденным, и чуждым.
Джек находился где-то в Западной Виргинии, проездом через Бостон, а оттуда собирался лететь во Флориду. Официально они сейчас пытались зачать еще одного ребенка, но Джек занимался избирательной кампанией, а она, Джеки, по правде сказать, боялась. За шесть лет их брака она беременела три раза. До Кэролайн она потеряла двоих детей. Сначала у нее был выкидыш. Потом – Арабелла.
Когда летом 1956 года у нее началось кровотечение во сне, боль была непомерной, как стихия. Словно все тело выворачивало наизнанку. Оглушенная и ослепленная болью, она цеплялась за край кровати, как жертва кораблекрушения – за киль перевернутой лодки. Джек был в Европе, и она знала, что в ту ночь, если бы не настойчивость ее сводной сестры, истекла бы кровью.
Позже, когда ее скоблили, она пыталась сказать врачам, что анестезия не подействовала, но сквозь маску никто не слышал.
Потом, на пепелище, на развалинах, она хлопала глазами, пытаясь снова собрать мир воедино. Ей это не удалось – во всяком случае, не удалось вернуть ему прежний вид. Отныне он мог быть лишь корявым, неуклюжим. Но теперь она чувствовала: подлинно любит жизнь лишь тот, кто любит ее, невзирая на, и даже за, уродство.
Джек тоже боялся в самой глубине души, как ни хотел еще одного ребенка. В тягости она была неприкосновенна. Плод в утробе священен. На протяжении всех трех ее беременностей белье супружеской постели сохраняло первозданную чистоту и гладкость.
Нельзя сказать, чтобы дело было только в ней. Отнюдь. С тех пор как они поженились, Джеку уже дважды делали операцию на позвоночнике. Каждый раз врачи объясняли, что риск очень высок. И Джеки, и ее свекор с жаром указывали на пример президента Франклина Делано Рузвельта, который руководил страной из инвалидного кресла, но Джек о том и слышать не хотел. Даже когда боли были чудовищны, он почти не пользовался костылями, что уж говорить об инвалидной коляске.
До его операций она никогда не молилась по-настоящему. Даже с подозрением относилась к молитве, особенно когда к ней примешивался личный интерес. Но вдруг начала молиться. Она молилась с адским жаром. Она потеряла разборчивость. Она молила Творца за Джека. Оставшись одна в церкви Святого Франциска Ксаверия в Хайаннисе, она опускалась на колени. И низко склоняла голову, потому что склонить голову – смиряясь перед жизнью и ее непостижимыми тайнами – было в конечном итоге единственно возможной молитвой, речью тела во всей его бессловесной человечной уязвимости.
После первой операции Джек подцепил инфекцию и впал в кому. Врачи пророчили ему смерть. Но он не умер. Не таковский. Он выжил. Скоро он уже сидел в постели, читая газеты и шпионские романы, с новой серебряной пластиной в спине. Он ухмыльнулся Джеки и сказал, что это усилит его персональный магнетизм.
Магнетизм действительно усилился, по той или иной причине. В промежутке между операциями Джек разъезжал по стране, и публика его обожала.
Его было легко обожать.
Джеки уже знала, что безопасность – лишь иллюзия. Отец, азартный игрок, говорил: ничто не мотает человека по ветру так, как надежда. Но Джек твердо решил построить свою избирательную кампанию именно на ней. На надежде, а не страхе. Даже если это в итоге будет стоить ему жизни.
В августе пятьдесят шестого, когда умерла их нерожденная дочь, он был в отпуске – ходил на яхте с кучкой разнообразных друзей в Средиземном море у острова Эльба. Джеки в глубине души не верила, что он вылетел домой первым же самолетом. Никто не верил. Желание иметь детей и страх перед бездетностью сидели в нем очень глубоко. Он боялся взглянуть в лицо фактам. Еще он опасался, что виноват сам, и боялся взглянуть в лицо этому страху. Семейный врач когда-то в разговоре с ним и Джо-старшим высказал предположение, что венерическая болезнь, перенесенная когда-то Джеком, могла повлиять на матку Джеки, на ее способность к зачатию. Джека эти слова вывели из себя, но Джо и слышать не хотел: «Чепуха. Девица слишком хрупкая, почитай стеклянная. В том и беда».
Правду о подозреваемой инфекции Джеки открыла Этель, золовка. Вроде бы из жалости к невестке, которая была совершенно убита горем, поскольку подвела Джека и всю семью Кеннеди, ведь у бездетного мужчины очень мало шансов попасть в Белый дом и все такое. Будешь так убиваться, только себе повредишь, сказала Этель. Джеки об этом даже не думала, пока Этель не сказала. Но она хотела как лучше, потому что сама на месте Джеки чувствовала бы себя именно так. Бобби и Этель уже настрогали четверых и ожидали пятого. Этель заявила, что никак не можетперестать беременеть, и шутливо запыхтела, изображая предельную усталость и будто желая сказать, что Джеки и половины всего не знает.
Джеки, конечно, не знала всего, но отлично знала про Арабеллу.
Восьмимесячная, само совершенство, и неподвижная, как нераскрывшийся белый бутон.
Она выбрала имя сказочной принцессы для ребенка, которого не смогла удержать.
После выписки из больницы она поняла, что не сможет вернуться в их новый дом, «Хикори-Хилл», где ждет молчаливая, пустая, заново отремонтированная детская. И Джек продал дом брату, Бобби, по себестоимости, а сами они сняли жилье в Джорджтауне, пригороде Вашингтона. Трехэтажный красный кирпичный таунхаус. Потом – с помощью Джо-старшего – Джек купил дом на Ирвинг-авеню рядом с «Большим домом» – имением на мысу Кейп-Код, где выросли все дети Кеннеди. Вскоре Джек начал планировать избирательную кампанию пятьдесят восьмого года, чтобы переизбраться в сенат. «Уже?» – спросила тогда она. Он почти не бывал дома. Бывал так редко, и время вдвоем было для них так драгоценно – что еще им было делать, как не «играть в домик»?
На Кейп-Коде под конец того лета, после Арабеллы, Джеки начала выходить гулять на прилежащий к имению кусок пляжа, и ветер с пролива хлопал калиткой ее сердца. Лязг, лязг. Ветер стал для нее чем-то вроде спутника – дикого, необузданного. Он свистел в ушах и не давал думать. Он говорил: есть только этот миг, здесь, сейчас.
Тяга приливов и отливов успокаивала. Дюны были крепостными стенами, укрывающими от мира. В теплом сентябре она плавала ночами в околоплодной темноте пролива. Миссис Клайд и свекровь Джеки не одобрили бы, но Этель и Бобби как раз родили пятого ребенка, девочку, и вся семья радовалась. Клан Кеннеди отвлекся на новорожденную. Для Джеки это было как нежданное помилование. Остров Нантакет подмигивал ей издали.
Она запретила себе рассказывать Джеку, что мысленно окрестила девочку Арабеллой. Ему ни разу не пришло в голову, что дочери нужно имя. На могильном камне написали просто «Дочь». Бобби организовал похороны по просьбе Джека, пока тот возвращался домой через Францию.
Не позволяй себе сдаваться печали.
И все же она пала духом – так сильно, что сама от себя не ожидала. Просто удивительно, как человеческое тело может изображать жизнь к удовлетворению всех окружающих, но не владельца тела.
По настоянию сестры, Ли, в ту осень Джеки поехала в Лондон – навестить сестру и ее мужа Майкла в элегантном новом доме на Честер-сквер. Лондон помогал развлечься – блистательные приемы, модный свет. Но Джеки было не по себе везде, кроме развалин – мрачного щебеночного пейзажа, – потому что ее душа тоже лежала в руинах.
Город почти не изменился с пятьдесят третьего года, когда Джеки писала репортажи о коронации в «Геральд трибьюн» – ее первое настоящее задание как журналиста. Три года спустя в Лондоне все еще виднелись развалины там, где бомбы и ракеты грубо пробудили его. Джеки ловила себя на том, что удивленно моргает, глядя на пустырь – бывший элегантный ряд или полукруг георгианских домов. Из некогда величественных фундаментов пробивались молодые деревца. Там и сям неожиданно вздымались внутренние стены, деля дневной свет на куски, и погреба зияли на улицу темными пропастями.
Город был покрыт копотью, оспинами от осколков, населен призраками. Триумфальные арки и монументы обросли странным угольно-черным мехом. Из Темзы пропала всякая живность. В воронке от бомбы прямо на Стрэнде после двух ночей сильного дождя внезапно обнаружился троллейбус: он провел больше десятка лет под слоем земли и грязи. Джеки пошла посмотреть на троллейбус, смутно думая о том, что в пятьдесят третьем сама часто ездила этим маршрутом. Оказавшись на месте, она увидела, как констебль уносит покрытую коркой глины дамскую сумочку.