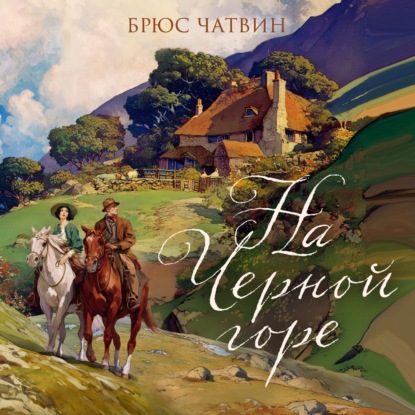Полная версия
Нежность
На склоне лет, после двух-трех стаканчиков виски, Анджело – который когда-то с сожалением, но весьма энергично наставлял Лоуренсу рога – утверждал, что оказал услугу своему другу и сопернику, «Давиду», опрокинув его урну над лучезарной гладью Средиземного моря в тот чудесный день в 1935 году. (Видите ли, Давид обожал Средиземное море.) Затем добросовестный Анджело вновь наполнил урну древесной золой из ближайшего костра. Он опасался, что прах великого писателя не впустят американские таможенники. Они не любили мертвецов и уже давно с большим подозрением относились к «Давиду».
Что правда, то правда.
Но авантюрный роман этим не кончился. Урну (что бы в ней ни лежало) Анджело случайно забыл на тихом полустанке в Нью-Мексико, где пришлось выйти из вагона по нужде. Облегчившись, он рассеянно вернулся в поезд и лишь через двадцать миль в отчаянии хлопнул себя по лбу. Перерыв всю багажную полку – о нет! о нет! – он сошел с поезда и вернулся на двадцать миль назад, на пустынный полустанок, где вновь обрел изгнанника (или, во всяком случае, урну).
Дальше они путешествовали вместе – любовник и (по официальной версии) муж.
Вскоре после возвращения Анджело и груза Фрида велела смешать прах от всесожжения с цементом, и изгнанника, или же его древесно-зольную имитацию, уложили на покой в часовенке, спроектированной лично Фридой. По-видимому, при жизни ее муж был таким неуемным, что теперь лишь цемент мог удержать его на месте. Более того, лишь цемент, как казалось Фриде, помешает его преданным друзьям – ее суровым критикам – выкрасть прах и развеять его над пустыней Нью-Мексико.
Где-то частицы изгнанника все еще парят и дрейфуют.
Пылающая молекула синей радужки. Атом рыжей бороды. Нейрон, хранящий память о соцветии лиственницы. Неуемность – его суть.
И все, что остается от каждого из нас, – сюжет.
Древние нити сплетаются, пресекаются.
Поймай кончик и осторожно потяни.
Не обращай внимания на узлы, помехи, треск контрапунктов. Они никуда не денутся.
Время распарывается. Смотри, как его стежки спадают с ткани мироздания.
авонС. адог 0391 атрам 2, речев йиннаР
Ранний вечер, 2 марта 1930 года. Снова.
«дномребоР» аллиВ
Вилла «Робермонд».
,ьтаворк юукзу ьшидиВ
Видишь узкую кровать,
,укчобмуТ
Тумбочку,
енишвук в ытевц и сондоп йынйаЧ
Чайный поднос и цветы в кувшине.
тен еще, огесв еерокс, ябеТ
Тебя, скорее всего, еще нет.
ьтсе еще киннангзИ
Изгнанник еще есть.
Через три часа сиделка-англичанка закроет ему глаза, сверится с часами на цепочке, тикающими у сердца, и зафиксирует время смерти.
Он поворачивает голову вправо-влево на замаранной подушке. Веки трепещут. Со стены на него в свете лампы смотрит Мадонна.
Онзнает эти глаза.
Необычные для Мадонны.
«Альба Мадонна» Рафаэля. Вот она кто. Неплохая копия.
Темные глаза. Глубоко посаженные. Широко распахнутые. Проницательные и живые.
Сквозь одно лицо просвечивает другое…Дражайшая Роз…
Вот она стоит и смотрит на него с порога, с расстояния почти в десяток лет: 10 сентября 1920 года. Ее дом – белый, в самом конце террасы, высоко на холме над Флоренцией, в деревне Фьезоле. К ее скромному жилищу ведет крутая тропа, идущая мимо его съемного приюта, виллы «Кановайа». Тропа карабкается сквозь оливковые рощи наверх, к ней.
Он вернулся в Италию в ноябре предшествующего года, после пяти лет заточения в Англии, вызванного войной. С объявлением войны закрылись все границы, и краткий визит в Лондон обернулся для него и Фриды непредвиденной ловушкой, нежеланной и разорительной. Когда он наконец вернулся в Италию – один, – у него за душой был всего двадцать один фунт стерлингов.
Осень 1920 года. Вилла «Кановайа» снята на ее имяРозалинда роза Роз розовое пламя, но он прожил там несколько недель. Сама Розалинда съехала оттуда, когда вернулась с детьми и Айви, нянькой, после месячного отсутствия (они уезжали в горы на лето) и обнаружила, что в окнах нет стекол. Взорвался расположенный неподалеку склад боеприпасов.
Кажется, что война и не кончалась, хотя перемирие заключили уже два года назад. Войну выиграли. А мир проиграли. Однако для Лоуренса взрыв обернулся везением. Одиннадцать комнат. Сад на склоне горы с потрясающим видом на Флоренцию. И Роз – на расстоянии пешего пути.
Да, ответила она, когда он спросил. Почему бы нет. Если он хочет пожить тут, дом в его распоряжении. Для семьи с тремя маленькими детьми дом не годится. В таком состоянии. А вокруг стоял благодатный тосканский сентябрь, прохладнее, чем на юге, в Сицилии, – Роз знала, что они с Фридой плохо переносят тамошнюю жару.
Фрида проводила сентябрь в Германии с родными и с последними его, Лоуренса, тремя фунтами стерлингов. Он сказал хозяйке дома, что Фрида возненавидела бы виллу «Кановайа» с первого взгляда – за слепые окна. Фрида терпеть не могла ничего сломанного, негодного. Вилла стояла у проселочной дороги, за высокой стеной. Собственный внутренний дворик с фонтаном, увитый плющом балкон и комната в башне с видом наFirenze[6].
Дом будто ждал его. Казались уже знакомыми охристые стены, скромные зеленые ставни, огромный заросший сад с изобилием плодов. Прохожий из местных сообщил, что этим грушам двести пятьдесят лет. Дольше них живут только оливы. Яблони все еще плодоносили, одичавшая клубника и фиалки буйствовали в огороде, внутренний дворик украшали яркие терракотовые горшки, из которых перли апельсины и лимоны. Он написал Фриде (с подчеркнутым намеком), что здесь наконец может снова дышать.
В первую ночь на новом месте в окно влетела летучая мышь и вылетела в другое.И улетела! / Ужасом подгоняема20. Из всех животных он только летучих мышей боялся так, что волосы вставали дыбом. Перед виллой обгладывали кусты две местные козы. Отлично. Что-что, а уж коз доить он умеет. У кухонной двери часто ждал щенок, и семейство котят-сироток мяукало у калитки. Он им всем заменит родную мать.
В унылых комнатах, где до взрыва жили слуги, пол устилали козьи орешки, а старый буфет, как насест, облюбовали куры и ежедневно откладывали яйца в недра дивана с лопнувшей обивкой. За домом раньше смотрели двое старых слуг, муж и жена, но когда в город пришла инфлюэнца, они перебрались выше по холму, к родным во Фьезоле. Остался только их зверинец.
Сейчас изгнанник снова перенесся туда.
Ночью он слушает, как горный ветерок обживает виллу. Ветреная пустота охватывает стены тринадцатого века, и двери захлопываются с грохотом, словно оружейный залп в честь нового года. На склоне дня душу лечит мягкий предвечерний свет. В саду совокупляются черепахи, судорожно вопя и биясь панцирем о панцирь.
Пахнет диким жасмином, и природа мало-помалу заново отвоевывает пространство виллы. Он решает, что перед отъездом хорошенько все почистит.
По утрам он завтракает персиками из сада, с дерева, растущего у калитки. Лучше, слаще этих он не знавал.Это я о персике, конечно, еще не съеденном. / Зачем такой бархатный, такой смачно тяжелый?21 Скоро поспеет черника. Не попробовать ли сделать вино?
Он заделался штатным вуайеристом при двух черепахах.Секс исторгает из нас голос, и мы зовем, зовем через бездны, зовем того, кто восполнит нас22. Их неловкая, некрасивая любовь наполняет его странным счастьем. Эта неуклюжая агония погони, / Эта угрюмая внутренняя тяга – / Знает ли она о них, / Удаляясь в бесконечной медлительности?23 Его восхищает самцовое саморазоблачение, крайнее унижение, позыв добавить себя к ней24. Наблюдая, он словно сам становится наполовину черепахой.
Официальная съемщица виллы навещает его каждый день, и с ней всегда три маленькие дочки. Впервые они явились в день приезда Лоуренса, формально – для того, чтобы две старшие, Бриджет и Хлоя, могли поблагодарить за шубки из овчины, сшитые собственноручно Лоуренсом, чтобы девочки не мерзли в морском путешествии из Англии в Италию в стылом январе. Он «так ловко обращается с иголкой!» – воскликнула она в тот день. И улыбнулась – на смуглом от итальянского солнца лице блеснули белые зубы.
Младшая, Нэн, у нее не от мужа, не от Годвина Бэйнса. Изгнанник в курсе, что младший ребенок – плод краткой связи хозяйки дома с ее другом детства в гостинице «Савой» в Лондоне.
Берти Фарджон, драматург и деверь Розалинды, по секрету предположил, что связь была с дальним прицелом – вызвать скандал, настолько неотвратимый, что даже муж-собственник не сможет смотреть на него сквозь пальцы и будет вынужден дать развод, на который до сих пор никак не соглашался. Берти рассказал, что Розалинда помогает мужу собирать улики – любовные письма и все такое, – которые позволят обосновать прошение о разводе.
Изгнанник тогда предложил Берти, другу-литератору – уже второй раз, первый был пятью годами раньше в Сассексе, за несколько месяцев до знакомства с Розалиндой, – вместе написать роман или пьесу о разваливающемся браке Бэйнсов, но Берти оба раза только менял тему. В этой идее, однако, что-то было, и она упорно сидела у изгнанника в мозгу. Он никак не мог ее оттуда выбить.
Сегодня, у него в гостях, во внутреннем дворике виллы «Кановайа», она, все еще миссис Бэйнс, Розалинда, склоняет голову, чтобы понюхать цветок плетистой розы. Розы оплетают крашеный трельяж, расползаясь темно-красным пятном. Она касается их, и они трясутся, расплескивая аромат.
Она садится рядом с ним на прохладную каменную скамью. Он разливает чай. Она, конечно, хорошо знает этих черепах, поскольку сама семь месяцев прожила тут, на вилле. Она улыбается и говорит, что скучает по ним, глядя при этом себе под ноги.
Сегодня она пришла проверить, все ли у него есть в этом безоконном доме, в ее доме. Горшки и миски, мука, сахар, вино и прочие необходимые припасы. Она пришла не только с детьми, но и с мешками винограда и фиг из своего нового сада, выше по склону, во Фьезоле. Она спрашивает, что он пишет в записной книжке.
– Стихи. – Он пожимает плечами. – Так, всякое.
Она сидит, вопросительно улыбаясь, и он запечатлевает ее четырьмя отрывистыми строчками:
О, сколько плодов приносят нам розыРоза роз плодоноснаяРаскрытая розаРоза всего мира…25Слова на клочке бумаги – своего рода волшебство.
Через десятилетия, измерения, растрепанные ветром черновики, страницы доносятся обрывки строк.О, сколько плодов приносят нам розы / Роза роз плодоносная / Раскрытая роза / Роза всего мира…
Они вдвоем смеются над черепахами.
Я слышал, как одна женщина ее пожалела, бедняжкуMère Tortue[7]. / А я – я жалею месье. / «Он пристает к ней, мучает», – сказала эта женщина. / А сам-то он как донимаем и мучим, скажу я26.
Она говорит, что нельзя все время работать. Он обязательно должен сегодня прийти к ней на ужин. Она ходила на рынок. Она уложит детей пораньше. Девочки, играющие у лениво журчащего фонтана, протестуют.
Да, договорились. Он должен прийти к ним наверх, в Виллино Бельведере. Она хлопает себя по бедрам, встает со скамьи и подзывает детей.
Он долго ждал. С самого Сассекса, с той встречи на заснеженной вершине. Пять лет назад? Шесть? Он даже самому себе не хочет признаться, но жизнь без этой, незнакомой ему женщины была болью. Боль сидела в пустоте грудной клетки.
На подъеме, на крутом лесистом склоне он останавливается передохнуть. Прислоняется к старой стене и слушает шелест серых листьев олив на горном ветерке, утонченный и печальный. Знойный предвечерний час. Слышно, как загустевают дневные тени. Древние этрусские голоса гудят в каменной стене, к которой он привалился. Вибрации ползут вверх по позвоночнику.
Слушай.
На одре болезни, под изображением Девы – столь же близкий к смерти, сколь тогда, в тот день, в саду был близок к жизни, – он слышит сквозь годы хрупкий тамбурин листьев оливы. Не сразу найденная дверь Виллино Бельведере полускрыта лозами винограда с пухлыми, сладкими гроздьями. Сквозь лозы подглядывает Мадонна с настенной таблички.
И вдруг облегчение, головокружительное облегчение – появилась она, явилась ему: Розалинда,Роз, роза, летнее солнце высветлило каштановые волосы в рыжину. Пять лет назад она была языками розового пламени на снежном холме. А сейчас она…
– Проходи, – приглашает она снова и впервые. Трет пальцем мазок желтой краски на подбородке.
Красота – это больно. Он вынужден отвернуться.
Восстанавливая самообладание, он притворяется, что разглядывает картину на стене. Розалинда смахивает с его щеки комара.
– Проходи, – повторяет она, жестом показывая, чтобы он двигался вперед. Поднимает сумки с продуктами. Она сама только что пришла.
– Боже, ты совсем запыхался! Неужели я тебя убила!
Голос радостный, лицо открытое, но она пока не хочет встречаться с ним глазами. На ней красивоесерое шерстяное платье27, заляпанное, как и она сама, при покраске стен комнаты, предназначенной под детскую. Она качает головой, воображая, что за зрелище собой являет, но на самом деле она милая женщина, застенчивость красит ее еще больше28.
Они впервые встретились в Сассексе, где холмы громоздятся друг на друга, в январский день 1915 года. А теперь она, как и он, сбежала от Англии с ее унылой клаустрофобией. Они оба вырвались из плена.
– Дезертиры – сюда! – командует она, указывая на лестницу, наверх, но, несмотря на все свое гостеприимство и веселость, робеет.
– Революционеры – тоже? – спрашивает он. – Я думаю, расстрельная команда не капризна.
Они прибывают на верхнюю лестничную площадку. Розалинда роняет сумки, и он наблюдает, как она поднимает руки, чтобы завязать копну волос в узел на затылке. Тело у нее сильное, крепкое и притом изящное. Под платьем вздымаются груди. Она без корсета.
– С расстрельной командой разбирайся сам, – говорит она. – Главное, не вмешивайте мою новенькую желтую стену.
Он ухмыляется. Для него это впервые – чтобы с новым человеком сразу почувствовать себя так легко, так свободно от неловкости, планов, целей. Останься он школьным учителем, их пути никогда не скрестились бы. Но, несмотря на все их неравенство, разницу общественного положения, она с ним совершенно открыта.Люди, казалось, всегда несли с собой чудо, и уж коль скоро они пробуждали в Конни сочувствие, не все ли равно, к какому классу принадлежат29.
Он вручает ей бутылку марсалы, розы с виллы «Кановайа», каравай хлеба, купленный утром еще теплым у местной жительницы, и сюрприз в корзинке для Бриджет и Хлои.
– Я уже говорил? У меня завтра день рождения, – непринужденно замечает он.
Она поджимает подбородок, чтобы он стал двойным, как у армейского бригадира:
– День рождения, говоришь? Средииностранцев? Разрази меня гром! Ну и дела!
Округляет глаза, картинно удивляясь собственной выходке:
– В таком случае –по такому случаю – ты обязан помочь мне в приготовлении трапезы.
– Последняя трапеза осужденного?
– Возможно. – Она виновато морщит нос. – Я, признаться, совершенно безнадежна как кухарка.
Ее кожа пахнет целым днем пребывания на солнце. На раковине, рядом со щеточкой для ногтей, он видитфлакончик Коти30, «La Rose Jacqueminot». Они вместе разбирают сумки с покупками: козье молоко, настурции, мортаделла, анчоусы, дрожжи. Этот пестрый набор убедительно подтверждает ее слова о неумении готовить.
Она рассказывает о своих планах: собирается изучать плетение кружев и итальянскую вышивку. Она сама вышивает чехлы для декоративных подушек. Во Флоренции она купит перья, тушь и пигменты.Констанция создавала рисунки в старомодном стиле и иллюстрации к старым книгам. Иногда ее иллюстрации публиковали, у нее даже была какая-никакая известность31. Один лондонский издатель по-прежнему готов покупать ее рисунки, – к счастью, его не отпугнул предстоящий скандальный развод, сенсационное разбирательство в суде, сплетни. «Я знаю, досужие языки – это ужасно! Особенно если принадлежишь к хорошему обществу»32.
Развод в самом деле выйдет скандальным. О нем напишут в «Таймс», «Дейли экспресс», «Дейли ньюз», «Дейли миррор» и «Дейли мейл». Личные письма будут зачитываться вслух в суде, и куски из них будут печататься в газетах. («Расторгнут брак дочери члена Королевской академии!», «Феминистка получила развод!») Она говорит, что ей не терпится писать видыduomo[8] и колокольни Джотто с террасы нового дома.
Он смотрит на нее как зачарованный и по временам забывает, что нужно слушать.
Спустя лет шесть, в одиночестве, в сосновой роще на дальнем склоне той же речной долины он будет с любовью воссоздавать ее на бумаге. Констанция наследует от нее волосы орехового цвета и смугловатую кожу. Только будет иллюстрировать не детские, а старинные книги. Он поменяет цвет широко распахнутых ясных глаз с карих на синие – небольшая маскировка, возможность еще раз подержать ее в объятиях, пока пишется книга.
Муж Конни, «сэр Клиффорд Чаттерли», как и муж Розалинды, будет выпускником Кембриджа, героем войны и, в представлении изгнанника, «духовно бесплодным» – калекой в эмоциональном плане. Инвалидное кресло сэра Клиффорда станет внешним символом внутреннего паралича, бессилия целого поколения, закрывающего глаза на истины о своей войне.
Отец Констанции Чаттерли, член Королевской академии художеств, «сэр Малькольм» по книге, будет так же презирать своего зятя, как собственный отец Розалинды, сэр Хеймо, презирал своего. Своего зятя он не выносил33.
– Боже! – восклицает Розалинда и прижимает руки к груди. Это она открыла крышку его корзинки. Внутри извивается саламандра.
– На забаву трем юным грациям, – говорит он.
Бриджет и Хлоя несутся к нему с балкона, где до сих пор играли. На полу в гостиной, в большой оцинкованной ванне, на продолговатой подушке спит Нэн.
– Ш-ш-ш, тише, миленькие! – шикает на девочек мать, когда они восторженно пищат над саламандрой. – Сестренку разбудите!
Он чувствует себя едва ли не отцом семейства.
Полы ее нового дома устланыитальянскими циновками, сладко пахнущими тростником34, поверх которых там и сям раскиданы лиловые и синие персидские коврики, тонкие, шелковистые, порядком потертые35. На стене в гостиной висят отличные репродукции Ренуара и Сезанна36– из Германии, говорит она. Она купила их в Дрездене, когда путешествовала по Европе, еще до замужества. А вот – прекрасная копия Рафаэлевой Мадонны, круглый холст в потертой дубовой раме.
– «Альба Мадонна», – замечает она из кухни, видя, что он разглядывает картину. – Она висела на стене у меня в детской, когда я была ребенком. Тогда я обожала Деву Марию и ужасно жалела, что мы не католики. Мои дорогие родители, однако, не уставали напоминать, что мы – просвещенные агностики и в качестве таковых можем любить только сюжеты, порожденные Церковью, и вдохновленные ею произведения искусства – будь то исконная древняя Церковь или англиканская. Ее учениям мы доверять не можем. Однако меня завораживала эта голова, выражение лица – она похожа на одну из микеланджеловских сивилл. Я никогда не переставала ее любить. Это детство, я знаю, но она всюду путешествовала со мной, и мы по-прежнему близки.
Она улыбается – очевидно, собственное признание кажется ей забавным – и начинает хлопотать над настурциями:
– Их надо поставить в воду или положить в еду? Цветочница мне что-то объясняла, но я не поняла.
Они выходят на балкон, переступая через тряпичных кукол и «Волшебные сказки стран-союзников» с иллюстрациями Эдмунда Дюлака. На балюстраде из бледного камня сияют в ящиках бархатно-красные герани. Далеко внизу, в долине реки, где стоит Флоренция, собор якорем удерживает мир на месте.
…любовь – это так чудесно, ты чувствуешь, что живешь, что причастна к акту творения37.
Айви, молодая нянька детей, в отъезде – навещает каких-то друзей в Сиене. Когда дети наконец накормлены и уложены в широкую кровать матери, он готовит для нее ужин: тушеные помидоры из ее сада с оливками, вином, чесноком и мортаделлой. Потом они гуляют – вверх по склону холма в темноте, пахнущей соснами. Сверкают светлячки. На склоне горы под ними зажигаются огни в окнах,будто раскрываются ночные цветы38.
Она знает, что он написал монографию о книгах Томаса Гарди. Замечательно, говорит она. Они вместе восхищаются романами Гарди, перебирая один за другим. Она рассказывает с неприкрытым восторгом, что великий писатель был влюблен в ее мать и, по собственному признанию, списал образ Тэсс из рода д’Эрбервиллей с нее.
Достаточно взглянуть на Розалинду, думает он. Она определенно унаследовала безыскусную красоту матери, сияющую свежесть Тэсс,мягкие каштановые волосы, румяное, простодушное, как у деревенской девушки, лицо39. И тогда он решает рискнуть. Неуклюжая попытка стать ближе.
– Ты когда-нибудь попадала в беду, если можно так сказать, раньше, до развода? Просто за то, что жила. В смысле, за то, что просто пыталась жить честно, как сейчас?
«Да», – скажет онатихим, мягким говорком40, и это сделает их ближе.
– Боже милостивый, нет, конечно!
Ее как будто повергает в замешательство его вопрос, его серьезность, и она рвет горсть тимьяна с ближайшего скального выступа и прижимает к лицу, будто желая спрятаться.Она бы сейчас отдала что угодно, лишь бы оказаться на иссушенных солнцем склонах над Средиземным морем, вдыхать тимьяновый запах местных трав, карабкаясь на бледные утесы безлюдных гор! Там можно сорвать с себя крышку. А в Англии так и проживешь, закупорившись крышкой, всю жизнь41.
Он чувствует разделяющую их пропасть ночи. Розалинда отстраняется, напоминая, насколько они далеки друг от друга. Она продолжает дружелюбно – он приятель, но не член семьи.
– Понимаешь, мои родители – люди очень прогрессивных взглядов42. Мой отец – скульптор, как ты, конечно, знаешь, а мать активно участвовала в фабианском движении43. Путешествия с отцом всегда были чудесны. Мы изучали немецкий и французский. Меня и сестер возили в Париж, Флоренцию, Рим – надышаться подлинным искусством44. Мы копировали картины в галереях, а когда какие-нибудь доброхоты спрашивали, где наши родители, мы прикидывались сиротами.
В детстве мы пользовались полнейшей свободой – мальчики вместе с девочками – в деревне и в городе. Мы могли оставаться, сколько хотели, в студии отцав Кенсингтоне45. Мы ходили с распущенными волосами, в свободных халатах домашнего пошива, а иногда облачались в роскошные наряды, сшитые матерью для костюмированных вечеров. Я полагаю, можно сказать, что мы росли космополитками и одновременно – деревенскими девчонками46. Мы купались нагишом. Мы спали в лесу безо всякого присмотра взрослых. – Она поднимает лицо, словно обыскивая взглядом ночь. – Я думаю, что у молодежи никогда больше не будет такой свободы.
Но для нас это было в порядке вещей.Лет пятнадцати нас послали в Дрезден – в том числе ради музыки. Мы свободно жили в студенческой среде. Спорили с юношами о философии, социологии, искусстве и были ничем не хуже сильного пола, пожалуй, даже лучше, ведь мы женщины!47 Потом, когда мы стали чуточку постарше, мы с Джоан, моей старшей сестрой – ты ведь должен ее помнить по Грейтэму? – отправились в пеший поход по Альпам. Тем летом, мне кажется, мы танцевали в лунном свете каждый вечер, ходили в походы по лесам с крепкими парнями, которые непременно несли с собой гитары. Мы пели песни «Перелетных птиц»…48[9] Можешь в это поверить?
Смех у нее был теплый, звучный.
–В Гааге и Берлине49 мы ходили в оперу и на съезды социалистов50. Сейчас те девочки для меня непостижимы. Кто они были? Смотри! – Она указала на падающую звезду, хвост которой сыпал искрами в ночи. – Мы без конца пели и читали стихи. Мы рисовали, мы сочиняли музыку. Мы, наша маленькая группа, были вечно полны замыслов и планов.
Став постарше – уже в Лондоне, – мы всей шумной веселой компанией, бывало, брали целый ряд дешевых мест в балет на «Русские сезоны». Их мы любили больше всего. Их и Вагнера в Ковент-Гардене, где постановщиком был мой дядя Джордж. Еще мы играли в крикет, в крикет или хоккей, целыми днями.
Девочки Мейнелл – ну ты знаешь, Моника, Мэделайн и Виола, и еще младшая, я запамятовала ее имя, но ты, конечно, ее помнишь, – они тогда играли в хоккейной сборной школы Слейд. В огромных, обширных одеяниях средневекового вида. Должна сказать, что играли они не очень хорошо. Но кто бы смог хорошо играть в таких пеленах?
Капитаном команды был Калеб Салиби, впоследствии доктор Салиби, который потом женился на бедной Монике Мейнелл и бросил ее. Ты наверняка слыхал об этой печальной истории еще тогда, в Грейтэме, от мейнелловского клана. Мэделайн, сестра Моники, была всегда такая добрая… Понимаешь, мы все играли, не только мальчики. Мы были свободны, хотя сами этого не осознавали.Перед нами распахнут весь мир, нас привечают утренние леса. Делай что хочешь, говори что хочешь! Главное были разговоры, страстные споры, обмен мнениями51.