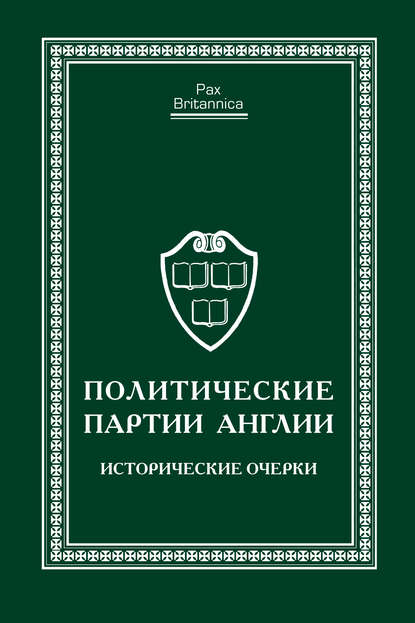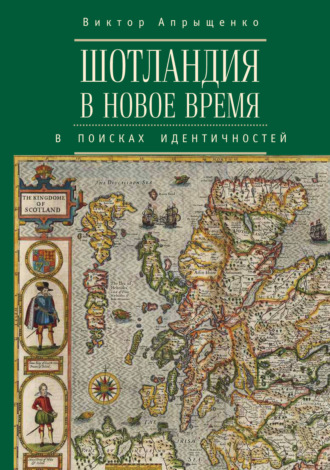
Полная версия
Шотландия в Новое время. В поисках идентичностей
Часть I
Шотландия на рубеже Средневековья и Нового Времени: от традиционного общества к обществу традиций

Глава 1
От кланового общества к национальному государству
«Каким ветром занесло нас к этим берегам? Доселе мы и не ведали, что такое нищета и лишения!»[9]. Эти слова французских рыцарей, высадившихся в Шотландии в 1385 г. для того, чтобы маршем отправиться на Англию, стали расхожим выражением для описания бедности, природных и социальных невзгод, которые испокон веков сопровождали жизнь шотландцев. Жан Фруассар, французский хронист, передает и чувства шотландцев, довольно неоднозначно воспринявших весть о подмоге с Континента, пришедшей для того, что одолеть англичан. «Какого дьявола им надобно? И кто только их звал? Неужто мы и без них с Англией не справимся? До сих пор какой был нам от них прок? Пусть плывут обратно, ибо народа в Шотландии достаточно, чтобы мы свои домашние распри уладили сами…»[10] – в этом заочном диалоге переплелись и представления самих шотландцев о себе, и образ этой дикой земли, возникающий в сознании чужеземцев, и противоречивые отношения с Францией.
* * *И в Средние века, и в раннее Новое время Шотландия представляла собой маленькое и слишком бедное королевство, для того чтобы его положение хоть сколько-либо принималось в расчет политическими, экономическими и интеллектуальными элитами Европы. Экономический прорыв, который был совершен на севере Туманного Альбиона лишь во второй половине XVIII в., а также социальные процессы, связанные с этой трансформацией, отделяют Каледонию патриархальную от Шотландии индустриальной. Шотландская экономика, социальные и политические практики доиндустриального периода, скорее, сближают ее со скандинавскими государствами того времени, а также с Ирландией, чем с такими странами как Англия, Франция или даже Германия.
Одной из особенностей Шотландии являются ярко выраженные региональные отличия, подобные французским или итальянским, но гораздо более заметные ввиду малых размеров королевства. Можно с уверенностью сказать, что в стране с такой пересеченной местностью, какой является Шотландия, каждая долина обладает особым своеобразием – природным, культурным, порой языковым. Однако принципиальные различия сформировались между горными районами Шотландии и островами, с одной стороны, и равнинной Шотландией, с другой.
Разделение Шотландии на северную (горную) и южную (равнинную) имеет не только этническую или социокультурную, но географическую, в том числе и геологическую, основу. Северная Шотландия отделяется от южной цепью Грамплианских гор, порой прерываемых долинами – гленами, протянувшимися с северо-востока на запад. В рамках самого Хайленда не менее значимым представляется разделение на западный и восточный, тоже обусловленное и геологическими, и социокультурными условиями. Для ранних периодов истории такие естественные границы были чрезвычайно значимыми. Воин VI или VII века из горной Шотландии описывался своими современниками, как пришедший «из-за Банага» – так на гэльском языке называлась группа холмов на границе центральной и горной части Каледонии. А в VIII в. пиктский король был назван правителем «страны гор», что подтверждало особое положение Моррэя, откуда он происходил, по сравнению с другими частями Шотландии. В этой связи не приходится удивляться тому, что и политическое разделение часто следовало за географическим.
Еще одной из особенностей природного ландшафта Шотландии является огромное количество островов, расположенных, главным образом, у северо-западного ее побережья, некоторые из которых объединены в группы – Оркнейские, Гебридские, Шетландские. Всего их насчитывается 787, но обитаема лишь незначительная их часть. На островах также существовал особый социокультурный уклад, на протяжении веков поддерживаемый властью могущественных Лордов островов, правителей, стоявших во главе объединения, часто относимого к протогосударственным образованиям, просуществовавшим вплоть до конца XV столетия.
Одним из мифов, касающихся особенностей природно-географических условий Шотландии, является утверждение, будто бы она была сплошь покрыта лесами. Очевидно, что леса были истреблены здесь, в том числе и в горах, задолго до наступления средневековья в целях организации пастбищ. Деревьев хватало лишь на постройку жилищ, и уже средневековые описания страны свидетельствуют, что «лесов в Каледонии нет»[11]. В 80-е гг. XIX в. леса, населенные дикими оленями, составляли площадь два миллиона акров – десятую часть Шотландии. Расположенные, главным образом, в северных прибрежных районах, они стали даже фактором социального напряжения, поскольку из-за дефицита земель крестьяне требовали их вырубки, на что правительство никак не шло, поскольку разведение диких оленей сулило немалую прибыль при минимальных затратах труда. Если вплоть до XV в. на территории Хайленда лишь единицы домов были построены из камня, то в период XVI–XVII вв. количество каменных жилых строений увеличивается, и они становятся относительно постоянными местами обитания жителей гор. В прежние времена такое встречалось сравнительно редко, и жилища из торфяных блоков, покрытые вереском и приспособленные, главным образом, для нужд пастухов, имели временный характер. Вересковые пустоши, сегодня являющиеся одним из символов Шотландии, также, очевидно, стали продуктом относительно недавней человеческой деятельности и появились в течение последних 200–300 лет, а в средние века были характерной чертой пейзажа лишь в районе Чевиотского нагорья.
Распространенное мнение, что ландшафт северной Шотландии не менялся вплоть до периода модернизации XVIII–XIX вв., является далеко ошибочным. И хотя экономическая трансформация была более динамичной, чем изменения ландшафта, уже первые поселенцы, приспосабливая природу под свои потребности, обрабатывали землю, строили каменные сооружения, вырубали немногочисленные леса. Не говоря уже о том, что начиная с периода средних веков, а, возможно, и ранее, существовали торговые связи, в которые были втянуты и горцы, в частности, пикты, обладавшие большим флотом. Гильдас говорит, что «ужасные полчища скоттов и пиктов тут же высадились из своих курук, на которых плавали как через проливы, так и в далекие моря»[12]. Несомненно одно: трансформация ландшафта, происходившая в процессе осознанной деятельности шотландских горцев, имела своей целью поиск интенсивных форм хозяйственной деятельности, которые в довольно ограниченных условиях окружающей среды воплотились в своеобразный комплекс отраслей хозяйства.
И чем сложнее было приспособиться и выжить, тем более значимыми являлись эти преобразования для формирования идентичности народа, тем неотделимее процесс хозяйственной деятельности от процесса исторического восхождения народа к этапу национального развития. В этой связи освоение территории сравнимо по значимости с написанием истории народа, которая неотделима от земли, на которой он проживал. Здесь нам не раз еще придется возвращаться к теме неразрывности клановой истории и неотделимости самого понятия «клан» от территории, заселенной им, и изменений, происходящих на этой земле.
Природные отличия между шотландскими регионами усиливались и культурным разделением. На островах Шотландии вплоть до XVII в. существовала древнескандинавская правовая система, и использовался диалект, пришедший из Скандинавии, наиболее близкий норвежскому языку. Весьма значимым для Шотландии было разделение на гэлоязычных и скоттоговорящих, с одной стороны, и англоговорящих, с другой. Эта граница была не только языковой. Она определяла культурные, образовательные, религиозные и социальные отличия. Шотландия была гэллоговорящей страной в раннее Средневековье, однако к началу XVI в. гэльский язык сохранился лишь в Хайленде и отчасти на юго-западе королевства. Остальное население с XVI в. стало пользоваться шотландским в качестве основного языка, имевшим много общего с английским. Исчезновение гэльского языка было связано с временной миграцией и экономическими контактами Хайленда с Лоулендом и соответствовало процессу образования национального государства. И только в XVIII и XIX веках гэльский вновь войдет в моду, уже в другом социальном и культурном контексте, но будет выполнять важную функцию сохранения национальной идентичности в условиях англо-шотландской интеграции, становясь часто фактором политических столкновений. Связь языка, как одного из главных элементов идентичности, включая национальную, и политических процессов, вероятно, как нигде более видна в истории шотландского национализма. Под знаменами борьбы за возвращение гэльского языка в оборот выступали шотландские националисты XVIII столетия, и одержанная ими к концу следующего века победа означала то, что шотландская нация вновь обрела право на существование.
Данные о численности шотландского населения в период до появления статистики Вебстера, относящейся к 1755 г.[13], чрезвычайно фрагментарны. Тем не менее, не беспочвенными представляются данные о том, что между 1500 г. и концом XVI в. население Шотландии выросло с 500 до 700–800 тысяч, затем – до одного миллиона в 1700 г., и 1 600 тысяч ко времени первой официальной переписи в 1801 г.[14] Целый ряд фактов свидетельствует в пользу того, что с конца XVI в. и, особенно, в начале XVII в. рост ускорился, а стабилизация численности произошла во второй половине XVIII в. Это закрепление количества населения, очевидно, можно связать с тем, что довольно высокие естественные демографические показатели были уравновешены повышенной смертностью и вынужденной миграцией периода политических потрясений, что в целом соответствует европейской демографической тенденции того времени. Интересно и то, что показатели демографических процессов в Англии и в Шотландии редко совпадают, исключение составляет лишь, пожалуй, миграционная динамика, связанная с передвижением населения между Шотландией и Англией.
Структура типичного шотландского домохозяйства XVI и XVII вв. была похожа на состав аналогичных хозяйств в других странах северо-западной Европы и включала в среднем пять человек, с довольно незначительной динамикой в период 1500–1800 гг. В отличие от других стран Западной Европы здесь не наблюдалось процесса нуклеализации семьи и перехода от крупных семейных комплексов к мелким и индивидуальным. Исключение, пожалуй, составляет горная Шотландия, где средний размер семьи был несколько выше, а в XVIII в. наблюдается процесс сокращения ее средней численности.
Хотя шотландские источники по истории раннего Нового времени довольно фрагментарны и включают в себя в основном приходские записи, даже на их основании можно сделать вывод о том, что в этот период Шотландия испытала значительный демографический «перегрев», подобно тому, что наблюдался во Франции и Ирландии. Высокий уровень рождаемости совпал с повышенной смертностью, и это балансирование на грани голодного гомеостаза был свойственно для всего XVI и XVII столетий, а в Хайленде сохранялось еще и век спустя. Большая часть смертей была связана со смертностью от голода и гибелью от заболеваний, и эта тенденция сохранялась в Шотландии несколько дольше, чем в Англии, а ее преодоление совпадает по времени с аналогичными процессами в Швеции и корреспондируется с ростом уровня жизни XVIII века.
И в этом Шотландия раннего Нового времени являет собой типичный пример традиционного общества, где высокий уровень смертности компенсировался высокой рождаемостью, и первый год жизни младенца был периодом наиболее подверженным рискам.
Средняя продолжительность жизни была меньше, чем в Англии – 30 лет на протяжении XVI и XVII вв., и несколько меньше чем 35 лет – в XVIII столетии[15]. Изменение продолжительности жизни, как и во Франции, было связано с преодолением высокого порога смертности – как только со второй половины XVIII в. изменяется ее структура, увеличивается и средняя продолжительность жизни. Высокая смертность была побеждена посредством прививания от оспы, что автоматически повлекло за собой снижение вирулентности заболевания. Кроме того, усовершенствование агрикультуры способствовало преодолению смертности от голода. Традиционный демографический порядок постепенно заменялся новыми процессами.
Средний брачный возраст женщин был аналогичным английскому – 23–26 лет, хотя в целом женское безбрачие было несколько выше. Уровень внебрачных связей также превосходил тот, что существовал во Франции и в Англии (до середины XVIII в.), и этот уровень повышается к концу XVIII в., корреспондируясь с общеевропейской тенденцией. Количество внебрачных рождений имеет устойчивую тенденцию роста в Новое время – с 1 % в 1650 г. до 5 % – в 1800 г. В сфере внебрачных связей более строгая мораль равнинных территорий соседствует с большей вседозволенностью Хайленда – если между 1660 и 1760 гг. количество внебрачных рождений в Лоуленде выросло на 2–3 %, то в горной Шотландии – на 3–6 %[16]. Добрачные вольности, приводившие к рождениям, были более свойственны лесным европейским регионам, и церковь, хотя и боровшаяся с этим грехом, зачастую была бессильна.
Регион горной Шотландии, очевидно, имеет больше сходства с Ирландией с сфере демографических процессов, учитывая то, что Хайленд в большей степени пострадал от голода 1690-х гг. Растущий дисбаланс между динамикой населения и недостаточностью ресурсов приводил к расширению уровня миграции из региона в соседние области и за океан – проблема, с которой столкнулся целый ряд европейских стран в этот период.
Внутренняя миграция приводила к перенаселению одних регионов, в частности, Лоуленда, и к запустению других. Число жителей Эдинбурга, который был королевским городом, выросло с 12 тысяч в 1560 г. до 20–25 тысяч в 1635 г., 30–50 тысяч в 1700 г., и до 82 тысяч ко времени первой переписи 1801 г. Рост численности городского населения в Шотландии был наиболее динамичным во всей Европе в XVIII в., будучи в значительной мере связанным с эмиграцией из сельской местности. Этот рост характерен для всего периода шотландской Новой истории, но в наибольшей степени свойственен для конца XVI-начала XVII вв. и для времени, следующего сразу за подавлением якобитского движения[17]. Особенностью городской ситуации в Шотландии является то, что, хотя Эдинбург был самым ее крупным городом до начала XVIII века, соотношение численности населения, проживающего в столице и в других городах, было ниже, чем в других европейских странах. Такие городские центры как Глазго, Данди, Абердин, Перт, или меньшие по размеру и численности населения города вроде Инвернесса и Дамфриза, играли несомненно большую роль в экономическом развитии страны в целом, чем даже более крупные города в других европейских центрах. Кроме того, городской рост в Шотландии имел еще ряд особенностей. Во-первых, он был крайне регионализирован, поскольку практически все города располагались в Лоуленде, по крайне мере, это утверждение является бесспорным для периода до XVIII в. Во-вторых, шотландское городское население между 1500 и 1600 гг. росло в тех же пропорциях, что и английское. Еще более эти темпы ускорились в XVIII в., что было уникальным европейским процессом. Кроме того, цифры городского роста говорят и об экономической динамике в целом после 1750 г., когда темпы экономического развития Шотландии намного опережали тенденции развития других регионов.
Еще одним общепринятым утверждением является то, что экономическое развитие Шотландии в Новое время было тесно связано с эволюцией т. н. «примитивных социальных структур», какими были, в частности, хайлендерские кланы. Удивительно, но утверждение Рона Хастона, сделанное им почти четверть века назад, об отсутствии полноценных исследований о шотландской социальной структуре Нового времени, до сих пор нечем опровергнуть[18]. Британская и церковная, и светская историография предпочитали обходить этот вопрос стороной. Светские историки всегда ограничивались лишь констатацией различий социальных структур Англии и Шотландии; в работах же, принадлежащих перу церковных историков, чаще речь идет о взаимоотношениях между человеком и богом, чем между человеком и человеком.
XVI в. чрезвычайно интересен для историка с точки зрения и экономических, и социальных процессов, происходивших в Шотландии. Он является принципиальным для понимания шотландского прошлого Нового времени потому, что именно в тот период были заложены основы социальных процессов, определявших развитие региона в следующие два столетия. Наиболее фундаментальным из этих процессов было окончательное инстиуциональное разделение тех, кто работает на земле, и тех, кто ею владеет. Именно XVI столетие было последним веком шотландской истории, когда возможности социальной мобильности были относительно велики. Одновременно, XVI в. еще не провел резкого социального разграничения между джентри и представителями других социальных слоев.
Между тем, очевидно, что такой системы социальных рангов, которая существовала во Франции XVII в. или в Пруссии столетия XVIII, в Шотландии не было. Однако на уровне церковного прихода, например, существовало разделение на хозяев, свободных владельцев, фьюеров, державших землю на условии фиксированной платы, собственников и тех, кто обрабатывал землю. Такое разделение закреплено в большинстве письменных документов. На уровне городской классификации, как правило, выделяли тех, кто обладает городскими привилегиями, и всех остальных.
Сегодня, на основании анализа записей о поступлениях налогов, а также поместных документов, историк имеет возможность составить хотя бы самую общую классификацию социальных групп Шотландии Нового времени в зависимости от уровня их имущественного положения. В частности записи о налогах свидетельствуют об имущественной дифференциации конца XVII в. в Лоуленде. Изучение этого периода особенно важно, учитывая экономический кризис 1690-х гг., выступивший катализатором исподволь развивающихся процессов.
Подавляющее количество земли принадлежало крупным владельцам, обладающим политическим и судебным авторитетом и использующим патронажные практики для защиты собственных интересов. При этом земельный рынок был развит крайне слабо, а оживление операций на земельном рынке в конце XVIII века было связано с развитием городских слоев торговцев и профессиональных служащих. Корона, города и отдельные мелкие владельцы владели лишь незначительной частью земли в Шотландии, и только лишь в западных, центральных и юго-западных частях Лоуленда было несколько более развито крестьянское землевладение. Западные же острова были вообще объединены в единое владение, Лордство островов, где наследовались все земли целиком. Незначительное исключение составляет Восточный Лотиан и Файф, территории вокруг Эдинбурга, где земельная собственность была меньших размеров и рынок земли был более динамичным.
В Шотландии не было эквивалента английских йоменов, за незначительным исключением тех, кто проживал в поместьях мелких землевладельцев или порционеров, наследовавших лишь часть земельного держания. Однако таких к концу XVII в. насчитывалось не более 8 тысяч человек[19]. Те, кого в Англии называли копигольдерами, в Шотландии уже в конце XVI и начале XVII столетия стали арендаторами земли, мелкое же землевладение получает все большее распространение, начиная с середины XVI столетия, когда реформация разрушила крупное церковное землевладение. Однако, во-первых, экономическое значение таких хозяйств было невелико в XVI в., а, во-вторых, в XVII столетии большая их часть вошла в состав более крупных владений лендлордов.
Таким образом, и в XVI, и в XVII столетиях доступ для большинства крестьян к земле мог быть возможен только благодаря аренде. Если на протяжении XVI и большей части XVII вв. преобладает краткосрочная аренда, то в конце XVII столетия очевидно проступает тенденция к увеличению арендных сроков. Если на Атолле земли поместья Туллибардин в период с 1688 по 1783 гг. в среднем сдавались на срок 9 лет, в 1725 – 11 лет, то в 1760 – 19 лет[20]. Увеличение сроков аренды свидетельствует о том, что земли все чаще используются с коммерческими целями, как землевладельцами, так и арендаторами. Хотя для Шотландии это не было совсем новым явлением – такие же длительные сроки временных держаний были характерны для XV и начала XVI вв.
Сельское сообщество возглавлялось лендлордами. За ними шли фермеры, лично обрабатывающие землю, за ними их семьи и нанятые коттеры и слуги. Владения таких фермеров были чрезвычайно разнообразны и с точки зрения размера и структуры, и с позиции тех, кто трудился на этой ферме. В некоторых районах Шотландии таких фермеров насчитывалось до 50 % от всего мужского населения, в других – эта цифра колеблется в районе 20 %, а некоторых случаях фермами могли владеть сразу несколько хозяев[21].
Отличительной особенностью Шотландии по сравнению в Англией является то, что, даже несмотря на чрезвычайно маленькие земельные участки, в ней практически не было полностью безземельных крестьян.
Семьи коттеров составляли массу сельского населения в большинстве шотландских приходов, и большая часть сельских слуг, очевидно, происходила из этой категории. Они, как правило, получали небольшой участок земли в фермерских владениях в обмен на работу в хозяйстве землевладельца-фермера. По сути они являлись сельскохозяйственными рабочими, и различные региональные особенности этой группы на территории Шотландии не стоит переоценивать. Историки спорят и о процентном соотношении коттеров и крестьян-субдержателей относительно общей численности населения[22]. В целом, из-за высокой плотности населения и скудости земельных ресурсов, субдержания были больше распространены в Шотландии и Ирландии, чем в Англии, и уже на протяжении XV в. целый ряд монастырей обзавелся многочисленными коттерскими коммунами, для того чтобы удовлетворять монастырские нужды.
В Хайленде массовое распространение коттерства приходится на XVIII в., когда тысячи горцев, владея крошечными земельными участками, устраивали на них свое хозяйство, выживая с помощью рыбной ловли и дистиляции виски. Западно-хайлендерских и гебридских коттеров называли гэльским словом «скаллагс». В Лоуленде, начиная с экономического кризиса 1690-х гг., многие коттеры нанимались на мануфактуры, постепенно втягиваясь в формирующийся индустриальный рынок и составляя основу рабочих слоев населения.
Если сельская бедность в Шотландии была представлена, главным образом, коттерами, то социальная группа городской бедноты была более разнообразна и включала слуг, временных рабочих, странствующих актеров, попрошаек, бродяг и сирот, вдов и стариков. Три четверти тех, кто находился на попечении в Абердине в 1695–1705 гг. составляли женщины, из которых две трети были вдовами. Система социального попечительства была более развита в городах, особенно в Эдинбурге, в который стекался поток людей из сельской местности, резко возраставший в такие кризисные периоды как конец XVI или конец XVII веков. Церковные записи Перта, датируемые 1584 г., свидетельствуют, что четверть городского населения, составлявшего четыре с половиной тысячи, были бедняки, с трудом добывавшие себе пропитание. А на протяжении кризиса 1690-х гг. пятая часть всего миллионного населения Шотландии была ввергнута в бедность[23]. Несмотря на распространенные эгалитаристские представления и существующую систему взаимопомощи, шотландская бедность была серьезным вызовом еще и в XIX в., тогда как в Англии в целом эту проблему удалось уже решить.
Имущественная и социальная дифференциация, конечно же, являлась фактором, детерминирующим процесс формирования национального государства в Шотландии. Происходило это в той же мере, что в других регионах Европы. Вместе с тем, специфика этого процесса определялась связями, далеко выходящими за пределы экономических процессов. Шотландская клановая система являлась тем элементом социальных отношений, который словно бы проходил над всеми другими компонентами, и в итоге именно долгое существование родственных отношений, лежащих в основе кланового родства, определило и особенности развития национального государства. Клановое родство, в основе которого лежал не кровнородственный принцип, а особые социокультурные практики, являлось важным фактором общественной динамики еще и на протяжении XIX в., будучи при этом основой социальной системы Шотландии на протяжении всего средневекового периода и раннего Нового времени.
Относительно природы шотландской клановости необходимо сделать ряд предварительных замечаний. Во-первых, наиболее долго клановая система продолжала существовать в горной Шотландии, где она являлась первоочередным фактором, определяющим все процессы – политические, социокультурные, экономические. Вместе с тем, хотя и больше подверженный внешнему влиянию, Лоуленд также был родовым сообществом, где принадлежность к клану определялась не только фамилией, но и особыми социальными практиками и ритуалами. При этом сама природа клановости имела ярко выраженные региональные особенности, отвечая вызовам, существовавшим в той или иной части Шотландии. Оказывая влияние на развитие локальных сообществ и будучи фактором национального развития, кланы и сами не являлись застывшими во времени образованиями, но подвергались изменениям в зависимости от конъюнктур разного рода.