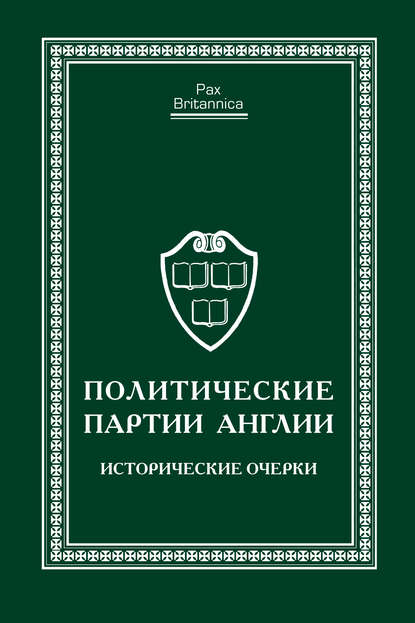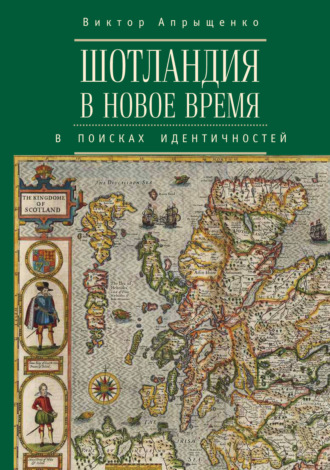
Полная версия
Шотландия в Новое время. В поисках идентичностей
Религиозное противостояние, вместе с тем, отражает и еще одну линию раскола, вероятно, наиболее важную для этого исследования и пролегавшую между националистами и юнионистами. При этом каждая из групп не была единой и эволюционировала на протяжении всего Нового времени. Более того, юнионизм и национализм в шотландском контексте были настолько связаны, что породили такое явление как «юнионистский национализм», вступление которого на историческую сцену относится к началу XIX века, а продолжает он существовать и в начале XXI в[5]. Согласно общему убеждению, чтобы быть истинным юнионистом, нужно было быть националистом, потому что иначе Шотландия не стала бы партнером Англии, заняв равновеликое с ней положение, а была бы подчинена Лондоном, превратившись в колонию. Отсюда и культ национальных героев, таких как Роберт Брюс и Уильям Уоллес, под чьим лидерством Шотландия вела борьбу и освободилась от английской экспансии в начале XIV в. Но эти герои почитались в первую очередь шотландскими юнионистами, считавшими, что без них Шотландия не могла бы заключить унию с такой могущественной страной как Англия.
Чтобы быть истинным националистом, таким образом, нужно было быть юнионистом. Сложно было не признать, что в условиях повсеместной экспансии XIX столетия суверенитет маленькой нации мог быть ограничен, и поэтому наилучший вариант защиты шотландских интересов – это поддержка английской внешней политики. Только в этом случае Шотландия могла развиваться как независимая нация с собственной культурой и социальной жизнью. Более того, шотландская культура вышла за пределы собственно Каледонии, став частью британского целого, находя свои проявления в рамках обширной Британской империи. Персонализированный образец и символ викторианской буржуазии был выходцем из эдинбургских протестантов.
Национализм, частью которого стало возрождение и процветание народной шотландской культуры, становился таким образом не разделяющей, а объединяющей силой. Крайности в выражении своей идентичности, порой встречающиеся в шотландской культуре XVIII и XIX вв., были направлены против представителей собственной шотландской элиты, и в этом смысле юнионистский национализм способствовал сохранению социальных границ. Так было, например, с призывом расширения прав среди представителей всех слоев населения, или протестом в Хайленде против сгона крестьян с земли лендлордами в целях расширения пастбищ. Определенный сегмент радикального движения, особенно в конце XIX в., выступал с идеей возвращения шотландского парламента, но большая часть протестующих была приверженцами чартизма, акцентировавшего внимание на социальной реформе. Врагом для нее был шотландский правящий класс, узурпировавший власть. И ассоциировать это движение с борьбой за независимость Шотландии очень сложно. Для многих рабочих и крестьян своеобразным выходом из сложного положения стала эмиграция, процент которой на протяжении XIX в. все возрастал.
Однако шотландская культура этого периода была не только народной или радикальной. Шотландское просвещение заложило прочную основу этой культуры, которую не смогли поколебать даже новые проблемы и цели, появившиеся после 1820 г. Направление развития этой культуры было заложено научными и техническими открытиями, нашедшими свое воплощение в архитектуре и градостроительстве, изменившими облик многих шотландских городов. Логичным воплощением духа филантропии стало и строительство огромного количества общественных зданий, школ, музеев, стоявших на службе распространения знаний. И все это также являлось формой идентичности, направленной, скорее, на признание общности с остальной Британией, чем на обособление от нее.
Иными словами, если мы зададимся вопросом о том, чем был шотландский национализм в XIX в., то ответ может быть двояким. С одной стороны, основой его было самостоятельное институциональное и религиозное развитие Шотландии. В этом смысле шотландский национализм был очень успешен, он был активным и признанным национальным движением, нашедшим выражение в государственном строительстве, аналогичном многим европейским странам. Он же способствовал и успешному социальному развитию, и экономическим успехам, которые лишь подтверждали претензии и чаяния шотландских националистов. Но с другой стороны, это была идентичность, которой не требовался шотландский парламент, по той простой причине, что всего, чего шотландцы добивались (экономического роста, торговли без ограничений, свободы, культурной автономии), они могли получить и добивались без парламента.
Культура – еще одна сфера, где мы можем обнаружить юнионистский национализм, хотя политическое влияние порой присутствовало и там. Эту ситуацию можно выразить словами Генри Кобурна, сказанными в 1853 г., о том, что «особенность народа и впечатление от него нельзя облекать лишь в формальные рамки»[6]. Шотландцы создали общество, где чувство нации лежит в народе и в культуре, а государственные формы лишь очерчивают его.
Оттого, что культурное возрождение не было свободно от политического влияния, оно постепенно приобретало новые формы. По мнению X. Ханхама, начало нового этапа национализма можно датировать 1850-ми годами[7], когда была инициирована кампания по возвращению парламента. Однако даже в этих условиях уния не оспаривалась, поскольку объединенный парламент устраивал шотландский бизнес и обеспечивал внешнюю торговлю и защиту общей британской культуры. В свою очередь Англия не желала ущемлять права шотландцев. Основные трения в Британии носили межпартийный характер, а не англошотландский. Шотландцы имели прочные связи с английской либеральной партией или английскими религиозными диссидентами.
Шотландцы продолжали развитие своей идентичности в тесной связи с англичанами. Наибольшая возможность для ассимиляции теперь таилась в сфере бизнеса. Торговцы из Глазго были гораздо более заинтересованы в развитии свободной узаконенной торговли, нежели в каких-то древних правах и интересах шотландской культуры. Менялась социальная ситуация, менялись законы, менялось отношение к ним.
Шотландцы впитывали и имперскую идеологию. В этом смысле они были обычной европейской страной. Такие авторы, как Роберт Льюис Стивенсон или Вайолет Джейкоб, акцентировали внимание на связях между имперской культурой и развитием колоний. Но народная культура адаптировала национализм не только посредством литературы, но и других источников, например, рассказов миссионеров, таких как шотландец Дэвид Ливингстон, который воспевал британский военный патриотизм, основанный на шотландском национализме, а также расистский миф о цивилизационном влиянии шотландской протестантской культуры на коренные народы.
Когда в 1920-е гг. в Шотландии стала возрождаться националистическая культура, лозунгом националистов было то, что на протяжении XIX в. Шотландия была подчинена Англии. В качестве аргумента приводился факт, что даже движение в защиту парламента всячески подавлялось, его просто не было. В действительности же все было наоборот – движение за возрождение шотландского парламента не получило развития из-за того, что шотландский средний класс был самодостаточен и обладал реальной автономией. Массы людей были устранены от механизмов реальной власти, но и в этом Шотландия была типичной европейской страной.
Была ли политическая система, созданная шотландцами, государством? Граница между государством и нацией – это еще одна проблема, связанная с изучением шотландской национальной идентичности. И этот вопрос в шотландской истории последних трех столетий также является одной из самых дискуссионных. Ответ на него не легок, как не просты и сами феномены нации и государства. Если подходить с точки зрения веберовского понимания государства как института насилия – то ответ должен быть отрицательным, в Шотландии такой структуры построено не было. Но в реальности государство гораздо более широкое понятие, нежели просто институт ведения войны с внешним врагом или принуждение оппозиции внутренней. Шотландия имела свое локальное государство, и его правящие структуры обладали властью символической, но той, которой местное население готово было подчиняться. Кроме того, шотландцы верили в единство британского народа. Будучи либералами, они желали свободной торговли, свободного выражения мыслей и протестантской гегемонии, а также очень хорошо понимали, что Британия может их всем этим обеспечить. Они верили, что быть с Англией, значит победить. Все это обеспечивало их лояльность Британии.
Таким образом, среди множества границ в шотландской истории Нового времени наименее значительной является та, что пролегла между Каледонией и Англией. Воскрешаемая многими поколениями борцов за политическую независимость, граница между двумя частями единого королевства определялась вдоль разломов, проходивших по отдельным вопросам – будь то противостояние пресвитерианской и епископальной церковной организации или вопрос об особенностях правовой системы. Хотя многие из таких характерных черт легли в основу шотландскости – того типа национальной идентичности, который акцентировал внимание скорее на различиях, чем на сходствах, эти особенности не сформировали противоположных идентичностей. В шотландской истории Нового времени всегда было то, что способствовало преодолению этих внутренних границ шотландского прошлого. Они, как правило исчезали, когда речь заходила о положении Шотландии в рамках Британии, игравшей двойственную роль в истории древней Каледонии. С одной стороны, оппозиция англицизации объединяла шотландцев, расколотых различными противостояниями, а, с другой, сама Британская империя была средством интеграции шотландцев, предоставляя им многочисленные возможности.
Неоднозначный характер шотландского самосознания, вероятно, ставит перед исследователем проблему операционного характера национальной идентичности, конфигурируемой в ответ на определенные и конкретные вызовы. Использование этой категории способно принести новые аналитические приемы в изучение многих исторических явлений, в том числе и концептов «нация» и «национализм», в первую очередь потому, что идентичность, будучи комплексным понятием, интегрирует различные отношения «Я» к окружающему миру, столь быстро менявшемуся в XVI–XIX вв., и определяется их связанностью и известной степенью соотнесенности.
Думается, что одним из ценных открытий исследований идентичности стало введение категорий «кризис идентичности» и «смешение идентичности», которые впервые были использованы в годы Второй мировой войны в психиатрической клинике реабилитации ветеранов на горе Сион, а уже вскоре получили широкое применение и в медицинской практике, и в области изучения социальной психологии. Сам термин «кризис» в области исторического сознания не представляет собой ничего специфического или особенного. Напротив, по мнению Й. Рюзена, он «конституирует историческое сознание, поэтому можно сказать, что без кризиса – нет исторического сознания». Кризис – это особое состояние, связанное с переживанием времени и прошлого, посредством которого реализуется современная идентичность. Однако это переживание прошлого обостряется, как правило, в связи с каким-то событием, противоречащим традиционной исторической идентичности. Событие, или, употребляя категорию Й. Рюзена, случайность, лежит в основе кризиса идентичности. С этой точки зрения, например, англо-шотландская уния 1707 г. была таким событием, которое легло в основу кризиса идентичности. Шотландцам, идентичность которых основывалась на осознании величия своего прошлого, завоеванного в битвах с англичанами, крайне не легко было смириться с потерей независимого парламента.
Гуманитарии уже давно отошли от традиции рассматривать кризис как нечто фатальное и неизменно предшествующее гибели общественного организма. Скорее наоборот, кризис знаменует перерождение, переход в новое качество, а зачастую и обретение новой формы. В поисках выхода из кризиса, порожденного столкновением реальной действительности и исторического мифа, лежащего в основе всякой идентичности, общество создает некий новый нарратив, целью которого становится изменение исторического сознания. Такой текст, будучи средством преодоления кризиса и придания определенной целостности неким событиям прошлого и настоящего, в первую очередь апеллировал к этому прошлому, стремясь объяснить его, исходя из событий настоящего. В этом смысле зависимость настоящего от прошлого является столь же очевидной, как и зависимость прошлого от настоящего.
Особое значение изучение кризиса идентичности имеет для периода Нового времени, когда происходила ломка традиционных институтов общества и формирование новых связей. Соответственно этим процессам менялось сознание и трансформировалась историческая память, что, в свою очередь, приводило к разрушению идентификации с одними общественными группами и к формированию новых связей. Новое время – это еще и период зарождения наций и национализма.
Породив кризис идентичности, уния стала своеобразной ментальной границей между двумя Шотландиями, стимулировав одновременно и поиск новых объяснительных моделей прошлого. В этом процессе важно было то, что в результате англо-шотландской интеграции был начат процесс «собирания» шотландских идентичностей, социальных, институциональных, религиозных, культурных и других, складывавшихся в одну – национальную идентичность. Этот новый тип модерного самосознания формировался как модульная целостность, сконструированная вокруг идеи нации, основополагающими элементами которой в разных ситуациях объявлялись то клановый и рабочий эгалитаризм, то пресвитерианская религия вместе с особым способом изживания ведовства, то шотландская просветительская традиция, или повседневные практики.
* * *Полагая национальную идентичность в качестве фрагментированной целостности, я постарался структурировать это исследование посредством тех элементов национального самосознания, которые сыграли в Новое время решающую роль в развитии Шотландии и составили неотъемлемую часть национальной идентичности Северной Британии. Каждый из изучаемых здесь элементов словно бы вынимался из истории и предъявлялся в случае необходимости отстоять свои национальные особенности и должен был свидетельствовать об особом пути развития. Однако, вместе с тем, эти сюжеты прошлого не содержали в себе воинственного противопоставления соседней Англии. Наоборот, они, став частью национальной традиции, должны были дополнить и укрепить британскость. Все это в равной степени относится к шотландским кланам и рабочему движению с их сильными эгалитаристскими корнями, и к экономическим проблемам и индустриальному процветанию, и к политическим расколам и коалициям, и к особенностям интеллектуального развития и повседневной жизни.
Шотландская история позднего Средневековья и раннего Нового времени теснейшим образом связана с клановыми структурами, истории которых посвящена первая глава книги. Несмотря на разные предположения относительно истоков шотландской клановой организации, очевидно, что они стали результатом того кризиса власти, который сложился на севере Британских островов на исходе Средневековья. И в этом смысле история шотландских кланов принадлежит Новому времени, даже несмотря на то, что их внутренняя организация содержит элементы патриархального строя. Осознавая спорность и неоднозначность отнесения истории шотландского XVI столетия в Новому времени, необходимо помнить и о том, что вплоть до XX века, и особенно в годы Наполеоновских войн XIX столетия и сражений Первой мировой войны, кланы из разных регионов Шотландии являлись олицетворением шотландского военного духа, составляя неотъемлемую часть британской идентичности.
Шотландская реформация, рассматриваемая во второй главе первого раздела книги, в такой же степени, что и клановая организация, стала символом прошлого Каледонии и перехода его в Новое время. Являясь в равной степени религиозным и политическим движением, реформация заложила основу пресвитерианской религии, на протяжении нескольких столетий рассматривающейся как специфическая черта шотландскости. Ставшая частью реформационного движения, политическая борьба, которой посвящена третья глава, не только составила важный этап шотландской истории, но и связана с такими символами прошлого Каледонии, как, например, Джеймс I. Более того, англо-шотландская уния 1603 г., объединившая короны двух частей Британии, стала началом длительного процесса формирования единого государства.
Несмотря на то, что в исследованиях по истории революции середины XVII в. Шотландии уделяется несравненно меньше внимания, чем Англии, что нашло выражение в самом названии «Английская революция», события на севере Британских островов, исследуемые в четвертой главе, были не менее значимы, чем собственно в Англии. Кромвелевское завоевание Шотландии осталось в памяти жителей Каледонии как попытка насильственной англизации и рассматривается как одна из трагических страниц шотландского прошлого. И в этом смысле то, что в отечественных учебниках истории до сих пор именуется английской революцией, было, конечно же, революцией британской.
Наконец, шотландская народная культура раннего Нового времени, интегрировашая традиционные верования и практики, но, вместе с тем, отразившая новые представления и религиозные культы, включая ведовские процессы, составила значимую часть шотландской национальной идентичности. Все эти идеи, представленные в пятой и шестой главах, словно бы отразили сложности и противоречия шотландской истории Нового времени с ее поиском внутренних и внешних границ, порой воздвигавшихся поверх уже исчезающих традиционных средневековых практик. Вместе с тем история Шотландии XVI и XVII столетий, включая события политической и религиозной борьбы, социальные и культурные процессы, выглядит как прелюдия к тем потрясениям, которые ожидали регион в веке восемнадцатом. Именно он, как никакой другой, остро поставил проблему конструирования национальной идентичности из элементов и символов, завещанных предшествующими эпохами.
Второй раздел книги посвящен XVIII веку. Будучи, пожалуй, самым драматическим и противоречивым столетием шотландской истории, он знаменовался подписанием англо-шотландской парламентской унии, которой посвящена первая глава раздела. Именно союз 1707 г. обусловил трансформацию идентичности, определившую не только шотландское прошлое периода Нового времени, но и новейшую историю Шотландии. Экономические и социальные процессы, в том числе миграция шотландцев, ставшая одним из условий и символов ее процветания в последующее столетие, рассматриваются во второй и третьей главах этой части книги. Стремление шотландцев объяснить природу унии в категориях разума и прогресса в значительной степени обусловили просветительское движение, символами которого стали Дэвид Юм и Адам Смит. Перед этими мыслителями стояла непростая задача объяснить, как гордая и независимая нация сделала такой неоднозначный выбор, заключив союз с Англией. Интеллектуальным и социальным аспектам шотландского Просвещения посвящена четвертая глава раздела. Наконец, как и в первом разделе, часть, посвященная XVIII столетию, заканчивается исследованием повседневной жизни шотландского общества, в которой нашли выражение наиболее характерные для Каледонии черты. При этом прослеживается, как в Шотландии формируются техники управления повседневной жизнью на уровне религиозных, правовых и политических практик и как в условиях утраты собственного парламента и активно развивающейся модернизации традиция трансформируется в инновацию.
Третий раздел монографии посвящен анализу становления индустриального общества в Шотландии. Уходя своими истоками еще в XVIII в., сложившиеся условия для развития промышленности способствовали тому, что регион стал одним из наиболее успешных в индустриальном плане регионов Европы и одновременно символом промышленного развития Великобритании. С имперскими успехами, исследуемыми в первой главе раздела, связано экономическое и социальное процветание Шотландии в XIX столетии. Успехи, достигнутые шотландцами в колониях, не только способствовали англо-шотландской интеграции, но и позволили сформировать идентичность, в которой шотландскость и британскость не противоречили друг другу и взаимно дополнялись. В самой Шотландии процесс становления индустриального общества выразился в массовом сгоне крестьян с земли и в формировании крупного землевладения, сопровождающемся соответствующими социальными изменениями – процесс, который исследуется во второй главе раздела. Наряду с экономической интеграцией, политическое развитие, изучаемое в третьей главе, способствовало формированию такой системы управления, в которой, несмотря на отсутствие основных политических легислатур, шотландцы создали институты власти, отчасти укорененные в традиции и позволявшие им решать основные вопросы развития и повседневной жизни. Как и во всей остальной Европе, становление промышленного общества сопровождалось социальным протестом. Особенности этого движения, нашедшие отражение в четвертой главе раздела, были связаны с тем, что борьба за социальную справедливость сопровождалась стремлением отстоять собственную национальную идентичность. Наконец, исследование повседневной жизни индустриальной эпохи, в которой отразились характерные черты шотландского общества, свидетельствует о том, что национальная идентичность вовсе не требует собственных политических институтов, а может выражаться в повседневных практиках и традициях.
История Шотландии Нового времени свидетельствует о том, что идея нации представляет богатую почву для мифотворчества и полна символов в силу того, что по своей природе национальная идентичность эмоциональна и экспрессивна и может выражаться во множестве метафор. Особую роль процесс мифо— и символо-творчества приобретает в Новое время, когда политические, геополитические и социокультурные процессы рождают или перерождают нации. Могущество символов на этом этапе объясняется тем, что в рамках мифо-символических комплексов они в равной степени имеют и когнитивную, и эмоциональную окраску, определяя место нации в окружающем политическом и культурном пространстве, ее врагов и друзей, прошлое и настоящее. В богатую конфликтами эпоху нацие-строительства, символы используются в противостоянии с теми группами, которые потенциально угрожают формирующейся нации, тем самым, разделяя на «своих» и «чужих» социокультурное пространство жизни национального коллектива, формируя его идентичность. Эта экстравертная направленность мифосимволического комплекса, ориентирующая нацию по горизонтали, сочетается с интровертной функцией, в которой национальная общность, используя временные категории, определяет себя по вертикали, формируя отношение настоящего с прошлым.
Важность национальных символов не только в том, что они фиксируют отношение людей к окружающему социокультурному пространству и отражают процесс конструирования идентичности, но и в том, что, будучи укорененными в мифе, они определяют выбор людей, и отношение нации к реальным процессам прошлого и настоящего формируется согласно той ассоциации, которую вызывает символ. Этот факт является основанием для политики в области символов, позволяет использовать само прошлое в качестве орудия отстаивания интересов.
Используя визуальную и нарративную природу символов, дискурс нации трансформировался из элитарных представлений и концепций в массовые идеи. В этом заключается еще одна функция национальных символов – посредством доступного языка знаков превратить элитарное в массовое, новое в традиционное, чужое в свое. И хотя символы, составляющие часть национального мифа, зачастую происходят именно из массовой культуры, необходимым условием их трансформации и обретения ими национального дискурса является интеллектуальная «редактура». Символы на время словно изымаются из массового использования и, пройдя процесс интеллектуальной обработки и адаптации, обретают новый смысл и значение.
Часто возвращение старых символов, которые неожиданно приобретают новый смысл, является следствием изменения самого контекста, из которого они были изъяты. Условия существования культуры, включая язык, ценности, институты, являются не просто важным составляющим жизни символов, но определяют значение собственного человеческого опыта. При этом взаимодействие языка, опыта и исторических изменений, по мнению Генриетты Л. Мур, является ядром, вокруг которого конструируется культура[8]. Очевидно, что соотношение этих же условий, включая персональный и общественный опыт, вырабатываемый интеллектуалами язык, и историческая динамика становятся решающими в наделении значением символов. В этом смысле, прошлое никогда не является просто историей, отражая, во-первых, тот контекст, в котором оно существует, а, во-вторых, всегда тесно связано с субъектом, к которому оно обращено. Особенно это важно, когда речь идет о динамичном и порой драматическом процессе нацие-строительства, в процессе которого трансформируется и общество, включая его представление о самом себе, о собственном прошлом и настоящем, и этнические мифы, легитимирующие новую нацию, и символы, посредством которого прошлое обретает новую целостность в коллективных представлениях нации.