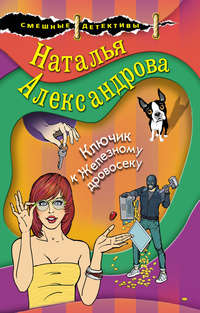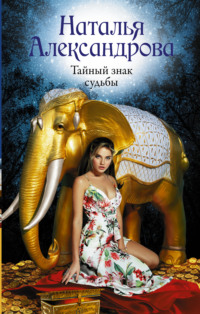Полная версия
Картина Черного человека
Я собрала для Петровны кое-какие вещи – смену белья, ночнушку, шерстяные носки – и вышла, заперев дверь нашей с Петровной комнаты. Замок мы поставили не так давно, когда Поганец окончательно сошел с катушек и подсел на наркотики.
На скамейке перед подъездом, как обычно, сидела монументальная старуха. Старуха эта была такой же неотъемлемой и неизменной принадлежностью нашего двора, как, к примеру, Медный всадник или Исаакиевский собор – непременные принадлежности нашего города.
Звали ее Зинаида Васильевна Морозова, но все местные жители называли исключительно Морозихой.
Как-то я увидела репродукцию картины Сурикова «Боярыня Морозова» и поняла, что кличка дворовой старухи основана не только на ее фамилии. Ее мрачный и внушительный вид очень напоминал старую раскольницу с картины. Во всем ее облике чувствовался сильный характер. Хотя, может быть, и скверный.
Морозиха всегда одевалась в черное и опиралась подбородком на крепкую палку с изогнутой ручкой.
Я шла мимо Морозихи, погрузившись в свои мысли.
Вдруг она выбросила вперед свою палку и зацепила меня за локоть крючком рукояти.
Я ойкнула от неожиданности и повернулась к ней.
– Чего не здороваешься? – проговорила та, сверля меня пронзительным взглядом.
– Ох, здравствуйте, Зинаида Васильевна… – отозвалась я, невольно смутившись. – Задумалась…
Я попыталась обойти ее, но старуха так крепко зацепила меня своей клюкой, что мне никак не удавалось высвободиться.
– «Задумалась!» – передразнила меня Морозиха. – А что, правда, что Петровну в больницу увезли?
– Да, правда… вчера ночью, по «Скорой»…
– Последние мы с ней здесь из старых жителей… – прошамкала Морозиха. – Не дай бог, помрет, тогда я одна останусь… А что с ней случилось-то?
– Вроде инсульт… – ответила я, думая, как бы поскорее вырваться на свободу.
– Удар, значит, по-старому… – не унималась старуха. – Иначе кондрашка… Чего это она? Крепкая была, здоровая… жить бы да жить… блокаду же пережила, а кто блокаду пережил – от всякой ерунды не помирает. С чего вдруг ее разбило?
– Ну, не знаю. Я ее на минутку оставила, смотрю – лежит на полу, не шевелится…
– Что, так и не пришла в себя?
– Да потом очнулась, да только ерунду какую-то говорила… стишки про людоедов…
– Про людоедов? – Морозиха отцепила от меня свою клюку, оперлась на нее подбородком и что-то тихо пробормотала.
Я было обрадовалась и хотела пойти прочь, но что-то в лице Морозихи заставило меня задержаться.
– Про людоедов, говоришь? – повторила она. – А ведь Петровну и правда чуть людоеды не схарчили…
– Что?! – я подумала, что ослышалась. – Людоеды, они ведь только в детских страшилках бывают…
– Не только! – Морозиха пристукнула своей клюкой по асфальту. – Петровна тебе, конечно, этого не рассказывала, зачем ребенка пугать. А потом она уж из ума выживать начала, видно, забыла про это. А мне раньше говорила…
Она еще немного помолчала.
Я уже передумала уходить, ее слова зацепили меня крепче палки. Я уселась на лавочку рядом с ней и приготовилась слушать.
– Она ведь в блокаду маленькая была, лет шесть или семь. А в таком возрасте даже в блокаду гулять хочется. Ну, вышла она во двор, играла с камушками, вдруг подходит к ней какой-то мужик и сладким таким голосом говорит:
– Пойдем со мной, девочка! Мужик страшный такой, небритый, глаза кровью налитые. Ну, тогда все были страшные от голода да холода. Нина-то…
– Кто? – переспросила я, не сразу сообразив, что Петровну и правда зовут Ниной.
– Нина растерялась, стоит столбом, а он ближе подходит и снова: «Пойдем со мной, детка, я тебе конфетку дам». А она уже не помнила, что это за конфетки такие. Стоит, молчит, смотрит. А мужик ее уже за руку ухватил, тянет за собой. А в подворотне еще один показался – смотрит, выжидает. Еще страшнее первого. Нина уже было пошла, но тут, на ее счастье, дворничиха появилась, Зухра, татарка. Как подскочила она, как заорала диким голосом: «А ну, валите отсюдова, звери проклятые!» Еще что-то кричала, да не в словах дело, а таким голосом страшным вопила, что эти двое побежали прочь. А Зухра Нину за руку схватила, и домой отвела, и велела во двор одной не выходить. Мать-то у нее лежала уже, встать не могла, через неделю померла. А Нина-то тогда ничего не поняла, даже пожалела, что не дали ей конфетку. А уже потом, лет через двадцать, взрослой уже, замуж вышла, сына родила, да вдруг и вспомнила тот случай, и только тогда до нее дошло, что чуть она не попала к людоедам на прокорм. Вспомнила тех мужиков – какие у них глаза были страшные, не как у людей. И еще – сытые они были, откормленные, это в блокадном-то городе! Тогда она мне про это и рассказала, мы ведь с молодости дружим.
Морозиха немного помолчала и добавила:
– Потом они ей часто снились, людоеды эти – как хватают ее и тащат в свою берлогу…
И правда, я вспомнила, что Петровна иногда просыпалась с криком, за что все на нее сердились… Мать прибежит, ругаться начинает – ребенка пугаешь, дура старая! Ага, ребеночку-то ее к тому времени уж лет пятнадцать минуло. Это я про Поганца, меня она ребенком никогда не считала.
Так вот, оказывается, какие сны Петровну преследовали…
В метро я думала, с чего это меня так разобрало, что я с утра пораньше бегу в больницу. Ладно бы родная бабушка была, хотя насчет родной…
Я вспомнила, как до десяти лет мы жили с ней только вдвоем и как она вечно ругалась на мать, что она не отказалась от меня в роддоме и сетовала, что меня не принимают в интернат…
Да, самое умное было бы про такое забыть. А вот никак не получается…
Сто раз уже говорила, что не очень люблю людей, однако одна только Петровна пару-тройку раз дала подзатыльника Поганцу, когда он уж очень меня доставал. А мать только посмеивалась и сюсюкала со своим сыночком.
Может, вы думаете, что я ревную?
Ой, я вас умоляю! К матери своей я испытываю только презрение, а она меня ненавидит, несмотря на то что комнату тогда, пятнадцать лет назад, все же удалось получить.
Когда я очнулась после операции, то в первый момент ничего не сознавала. Никак не могла прийти в себя, потому что перед глазами было все белое. Потом это белое стало шевелиться и разделилось на три части, и откуда-то издалека послышался женский голос: «Алевтина, Алевтина, очнись, ты меня слышишь?»
Не помню, говорила я или нет, но мать, ожидая меня, хотела девочку назвать сначала Анжелой, потом остановилась на Ангелине, но когда родилась я, то, увидев такое, мать вообще потеряла интерес к именам, а потом сбежала. И регистрировала меня бабка, которая все перепутала и записала меня Алевтиной на свою фамилию.
Алевтина Невеличкина, вот так. Терпеть не могу свое имя, все звали меня Алей. Так что на Алевтину я не отреагировала, тем более что голос был незнакомый.
Три белых пятна зашевелились, кто-то крикнул, что срочно нужно ввести сколько-то кубиков чего-то там, и я ощутила укол в руку. Через некоторое время белые пятна превратились в лица в масках. Кто-то светил мне в глаза, кто-то считал пульс.
– Очнулась? – спросил мужской голос. – Ну, скажи что-нибудь. Или глазами моргни, если понимаешь.
И я стала моргать глазами, потому что говорить не могла. Лица своего я не чувствовала, но доктор объяснил, что это наркоз еще не отошел. А потом будет болеть, но пройдет.
В больнице я провела две недели. Можно было бы выписать и раньше, но мать наотрез отказалась возить меня на перевязки – у нее работа, и в квартире сейчас такая обстановка, что больному ребенку там никак нельзя находиться.
И правда, в мое отсутствие там разгорелась самая настоящая борьба. Начальница ЖЭКа, понукаемая восточным человеком, который руководствовался справедливым принципом: «взяла деньги – сделай, что нужно», – пыталась комнату заграбастать. Но мать по совету того же адвоката запаслась справками из больницы и написала заявление во все возможные инстанции.
Начальница не то чтобы испугалась, но, должно быть, не хотела портить отношения со своим начальством, там уже грозили всевозможными проверками. И вообще при ее работе никакая огласка ей была не нужна. Так что пришлось дать восточному человеку от ворот поворот. Вроде бы и деньги она ему отдала, потому что приходил он скандалить и, видно, пугнул ее сильно.
Все это рассказала потом та самая соседка, что дала матери телефон адвоката по жилищным вопросам, мать на кухне обсуждала это с Петровной, а я вертелась рядом.
Так что, когда меня наконец выписали, комната осталась за нами. Мать развила бешеную деятельность, решив устроить там детскую своему обожаемому сыночку. Никто с ней не спорил – себе дороже встанет. Ее муж, как я уже говорила, вообще все время молчал, только старался поменьше бывать дома.
Но руки у него все же росли из нужного места, что нехотя признавала мать, поэтому комнату отремонтировали и купили Поганцу мебель для детской, тем более что на будущий год ему пора было идти в школу.
Я в это время сама ходила в участковую поликлинику, где мной занимался тот самый доктор с низким голосом и мягкими руками.
Шишки удалили, и они теперь не давили на носовые пазухи, но еще нескоро я начала дышать свободно. И глаза долго не вставали на место. Но потихоньку дело налаживалось, и теперь я не храпела ночами, и по утрам не было такого чувства, что голова заполнена жидким чугуном.
Доктор также определил меня к логопеду, там тоже дело не сразу, но пошло на лад.
Пока мать была занята ремонтом, она не обращала на меня особого внимания. Готовила в доме всегда Петровна, она была еще довольно бодрая. К домашнему хозяйству приспособила она и меня, убедившись, что я не бью посуду и не путаю сахар со стиральным порошком.
В это время очень активизировались мыши, что жили у Петровны за шкафом. Было такое подозрение, что к нашим мышам переехали еще родственники из комнаты покойного старика. Теперь они не только шуршали, но и пищали, и днем бегали по комнате.
И вот, когда Петровна сослепу едва на одну не наступила, она решила завести кота. Принесла уже довольно большого, но не взрослого, и он вроде бы принялся за дело, во всяком случае, мы находили у двери несколько раз останки хвостатых, но Поганец принялся его мучить. Он дергал кота за хвост, пытался подстричь ему усы, связывал ему лапы и так далее. Бедный кот долго терпел, но не выдержал и наконец расцарапал его очень качественно всеми четырьмя лапами.
Ну, что тут было, я уж не буду описывать. Поганец орал, мать тоже орала и потащила его в травмпункт, а мужу своему велела выбросить эту мерзость на улицу, а лучше вообще усыпить.
Кота он из квартиры вынес, но ничего ему плохого не сделал. Кот прижился в гаражах.
Мужики кормили его колбасой, которую приносили на закусь, и кот прекрасно себя чувствовал, сидя рядом с ними на ящиках и внимательно слушая мужские разговоры.
Занятая хлопотами с ремонтом, мать, похоже, забыла о моем существовании. Встречаясь, однако, со мной в коридоре, мать трясла головой, осознав, что вот эта орясина, как она меня называла, приходится ей дочерью, а стало быть, нужно что-то со мной решать.
Теперь, когда квартира была полностью приватизирована, можно было отправить меня снова к бабке в далекий небольшой город. Но не тут-то было.
Та самая начальница ЖЭКа хоть и побежденная, но затаила на мать кучу хамства и прямо сказала, что будет проверять, на месте ли я. А то взяли ребенка из воздуха, получили на него площадь, а потом опять куда-то дели. Нет уж, как только узнает она, что мать меня выписала, мало ей не покажется, никакие адвокаты не помогут.
Так что настал новый период моей жизни – в Петербурге, тем более что та, дальняя бабка, вскоре умерла. Матери позвонили по телефону и сообщили. На похороны она не поехала, вроде бы послала соседкам денег, но не думаю, что много.
Но это было позже, а пока лето прошло, близилось первое сентября, и нужно было определять меня в школу. И так с этими переездами и операциями пропустила я год.
Школа была в соседнем дворе, не взять меня туда не могли по правилам, хотя и пытались, потому что у матери не было каких-то важных документов, и пришлось ей дойти до директора, где поскандалить прилично.
Что-что, а это она умела.
Ругаясь и задавая себе риторический вопрос, за что ей такое наказание, мать купила мне кое-что к школе, а с одеждой помогла Петровна, ее знакомая работала в благотворительной организации при церкви. Кое-что Петровна переделала, укоротила платье, заштопала дыру на куртке и даже связала потом мне шапку и варежки.
Тут я спохватилась, что, углубившись в воспоминания, едва не проехала свою остановку.
Нет, все же правильно, что я решила проведать Петровну, а то ведь эти ее родные родственнички ни за что не пойдут в больницу. А варежки хоть и были ужасно кусачие, но все-таки зиму ту морозную я в них проходила…
В больницу меня пропустили без проблем. Дежурная в окошечке только спросила, кем я прихожусь больной, я сказала, что внучкой, она выдала мне одноразовый пропуск и направила на второй этаж, в отделение неврологии.
Я вошла в отделение и тут же столкнулась нос к носу с молодым рыжеволосым парнем в голубой медицинской униформе. Я подумала, что это санитар или медбрат, и спросила, где можно найти какого-нибудь здешнего врача.
– Вообще-то я врач, – ответил он насмешливо.
– Ох, извините… а где лежит больная… Колыванова?
Я едва не ляпнула «Петровна» и в самое последнее мгновение вспомнила ее фамилию.
– В двенадцатой палате, это в конце коридора. А вы ей кем приходитесь?
– Внучкой, – соврала я второй раз подряд и сразу же спросила: – Как она? У нее инсульт?
– Да нет, это не инсульт. Видимо, у нее был сильный стресс, в результате которого случился мозговой спазм, она потеряла сознание, упала и ударилась головой… Не знаете, что ее могло так испугать?
– Не знаю, – снова соврала я. – Когда я ее увидела, она уже лежала на полу…
– Ну, в общем, прогноз неплохой, она выздоравливает… – И он устремился по своим делам.
Я подумала, что такой благоприятный прогноз здорово расстроит мою мать. Она-то уж настроилась на то, что Петровна из больницы живой не выйдет. Ну, бабулька-то у нас, конечно, в последнее время беспокойная из-за деменции. Все хватает, прячет, по квартире бегает, может дверь ночью открыть или газ включить. Так-то она неагрессивная, но мать жутко злится. Впрочем, она всегда злится, особой причины не надо.
Палата, которую мне назвали, была большая, на восемь или девять коек, и Петровну я нашла в ней не без труда среди других таких же старух. Она лежала в дальнем углу, непривычно маленькая и тщедушная в больничной кровати. Глаза ее были закрыты, и я уж думала, что она без сознания, но тут, услышав мои шаги, она открыла глаза.
К моему удивлению, взгляд у нее был довольно ясный, не замутненный деменцией. И проговорила она вполне нормальным человеческим голосом:
– Алешенька, ты! Вот спасибо, что пришла, не забыла старуху!
– Ну, как ты тут? – спросила я излишне бодрым голосом, каким обычно разговаривают с тяжелобольными.
– Да как. Известно, как – больница она и есть больница, хорошего тут мало.
– Кормят-то ничего?
– Да ничего… одно плохо – конфет не дают!
Я усмехнулась: дома Петровна то и дело пила чай с дешевыми конфетами, без которых не могла прожить и дня.
– Ты мне конфет-то не принесла?
– Про конфеты как-то не подумала… вот яблок я принесла. Яблоки полезнее.
– Да что мне теперь про пользу думать? Вот конфетку бы мне… если ты еще ко мне придешь, ты принеси мне конфет. Ты знаешь, какие я люблю – «мечты», такие голубенькие, кисленькие…
– Хорошо, Петровна, принесу!
Я снова взглянула на нее.
Взгляд ясный, не заговаривается, меня узнала, а главное – не повторяет глупые детские стишки…
Похоже, то ли стресс, то ли удар по голове, то ли здешнее лечение положительно подействовали на нее, немного отодвинув деменцию. Может, на время, но все же…
Я решила воспользоваться этим временным просветлением, наклонилась к ней и спросила:
– Петровна, а ты помнишь, что с тобой случилось перед тем, как ты сюда попала?
Тут ее взгляд снова затянуло белесым туманом слабоумия.
Я подумала, что зря задала этот вопрос, что он прервал короткое просветление.
А Петровна снова заговорила, но на этот раз каким-то детским писклявым голосом:
– Дядьки… страшные какие дядьки… как зверюги, страшные… косматые, как волки… ох, боюсь… ох, страшно мне… отпустите меня, дяденьки… не хочу с вами никуда идти… тетя Зухра, они мне конфетку обещали…
Тут она захныкала, потом шмыгнула носом и продекламировала хорошо знакомым мне бессмысленно-бодрым голосом:
– Робин-Бобин кое-какПодкрепился натощак…Съел корову и быка,И кривого мясника…– Да заткните вы ее наконец! – воскликнула хриплым трубным голосом крупная тетка, занимавшая соседнюю койку. – Заколебала уже стихами своими!
А Петровна сама замолчала, испуганно покосившись на соседку, но та не успокоилась.
– В маразме бабка совсем, ее в психарню переводить надо, а не тут держать с нормальными людьми!
– Это ты-то нормальная? – спросила я насмешливо, но Петровна незаметно дернула меня за руку – не надо, мол, не тронь, только хуже сделаешь.
Тетка сделала вид, что не слышала, а может, и правда была туговата на ухо, только она встала, насупившись, надела фланелевый халат необъятных размеров, всунула ноги в шлепанцы и вышла из палаты, обдав меня запахом застарелого пота, немытого тела и несвежего белья.
– А сама ночью храпит так, что стены трясутся, – слабым голосом сказала женщина с койки, что была у окна.
Голова ее была забинтована, так что не видно волос, и лицо по цвету мало отличалось от бинтов.
– Ночью спать невозможно, мы уж по очереди дежурим, чтобы ее будить, – продолжала она. – Так когда ее разбудишь, такого о себе наслушаешься! Жутко скандальная баба и к старушке вашей все время цепляется.
– Да я ничего, переживу как-нибудь, – отмахнулась Петровна и только добавила вполголоса: – Так не забудь, если еще придешь, непременно принеси мне конфеток. Голубеньких, ты знаешь… «мечты» называются…
– Принесу, Петровна, обязательно принесу! – Я погладила ее по жиденьким седым волосам.
– Вот и ладно, – сказала она снова нормальным голосом, глядя на меня ясными глазами, – спасибо тебе, Алешка. На тебя ведь только и надеюсь теперь, спасибо, что старость мою скрасила… последние годы.
– Петровна, да ты, никак, помирать собралась? – всерьез испугалась я.
– А вот теперь как раз нет! – рассмеялась она и запела вдруг тоненьким голосом: – А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела!
– Ой, не могу! – женщина с забинтованной головой пыталась смеяться, но тут же схватилась за виски. – Ну и бабуся у вас!
Я пожелала им скорейшего выздоровления и вышла в коридор с намерением отыскать того рыжего врача и выяснить у него, когда Петровну можно будет забрать домой.
В обозримом пространстве я его не увидела, дежурной сестры на посту тоже не было, ну ясно, сегодня ведь воскресенье, все малость расслабились. Но зато в конце коридора я увидела знакомый фланелевый халат в жутких цветочках, его хозяйка воровато оглянулась и открыла дверь, ведущую на лестницу.
Я пролетела весь коридор на цыпочках, тихонько приоткрыла дверь и, свесившись вниз, увидела, что на площадке ниже этажом хозяйка халата приняла что-то от мужичка, одетого в несвежий ватник, и сунула ему купюру. Он заныл что-то, ясное дело, просил прибавить денег, тетка оттолкнула его и пошла наверх, я еле успела закрыть дверь и спрятаться за странным агрегатом, стоящим рядом.
Тетка меня не заметила, она торопилась в туалет. Ясное дело, в палате она этого делать не станет.
Я устремилась за ней. В коридоре по-прежнему никого не было.
Я настигла ее, когда она не вошла еще в кабинку, набросилась коршуном и вытащила из кармана халата маленькую бутылочку водки. Петровна называет такие «мерзавчиками».
– Так-так… – я нисколько не удивилась, потому что симптомы тетеньки были мне очень хорошо знакомы.
Немотивированная злоба на всех окружающих, неумение сдерживать ругань и хамство – все это имелось в наличии у моей матери. Стало быть, тетя прилично зашибает, а здесь, в больнице, все же какая-то охрана имеется, и врачи следят за пациентами. Вот в воскресенье она исхитрилась заполучить «мерзавчик», а в будни-то это сложнее, оттого тетка и бесится, на людей бросается.
– Отдай! – Тетка поперла на меня танком, но я ловко проскользнула под ее рукой и, оказавшись сзади, пнула ее в обширный зад.
Она шлепнулась на четвереньки, тут же перевернулась и попыталась встать, что при ее весе было затруднительно.
– Отдай! – повторила она жалобно.
– Слушай меня внимательно, – заговорила я, – если еще будешь к бабуле моей вязаться и про психушку говорить, то сдам тебя докторам. И тогда тебя выпрут отсюда на счет раз за нарушение режима и больничный не оплатят.
– Отдай! – ныла она.
– И чтобы ночью не храпела!
– Да как же…
– Мне без разницы, хоть подушку на морду положи!
С этими словами я сунула ей «мерзавчик» и ушла.
Говорила уже не раз, что не очень люблю людей. А тех, к кому отношусь хорошо, можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что в обиду их не дам.
В понедельник, когда я пришла на работу, там царила совершенно не рабочая обстановка. Все сотрудники сновали из комнаты в комнату, тихо шушукались. Кто-то с расстроенным видом вытирал сухие глаза, кто-то взахлеб пересказывал трагические события незадавшегося юбилея тем, кто их по какой-то причине не застал.
Во всем офисе стоял сильный запах валерьянки.
Шеф с утра безуспешно пытался заставить хоть кого-то работать, потом понял всю бесполезность этих попыток, закрылся в своем кабинете и разговаривал по телефону.
Один Сан Ваныч чувствовал себя как рыба в воде. Он занимался любимым делом – организационной работой конкретно, организовывал похороны, то есть всем давал какие-то поручения, звонил то в похоронное бюро, то родственникам покойной.
Увидев меня в коридоре, он обрадовался и коршуном кинулся на меня:
– Невеличкина, где ты пропадаешь? Ты мне очень нужна!
– Что еще? – ответила я довольно невежливо, вспомнив приключения с картиной, в которые он меня втянул.
– И нечего тут хамить! Отвезешь сейчас вот эту женщину в больницу, там нужно забрать документы.
Он показал на немолодую даму, которая с растерянным видом стояла возле двери бухгалтерии.
Дама была приличного вида, пальто дорогое, сумка фирменная, чем-то она немного напоминала покойную Анну Павловну. Глаза у нее были красные, нос распух, помада на губах отсутствовала.
– Почему я? – попыталась я отбояриться. – Почему как что, так сразу я? Что, больше некого послать?
– Потому что у тебя машина! – отрезал Сан Ваныч не терпящим возражения голосом. – Отвезешь ее в больницу, и на этом все!
Знает, паразит, что я Вику вожу в офис на машине, да про это все знают.
– В больницу? – переспросила я удивленно. – В какую больницу?
Перед моими глазами встала палата, где лежала Петровна и где я была накануне.
– В больничный морг, куда увезли Аню… – проговорила незнакомка. Голос ее немного дрожал.
Тут я связала ее красные глаза, сходство с покойной и уменьшительное имя, которым она ее назвала, и поняла, что передо мной близкая родственница Анны Павловны.
Сан Ваныч тут же подтвердил мою догадку:
– Это Татьяна Павловна, сестра покойной.
– Старшая сестра, – уточнила женщина.
Мне стало неловко дальше упираться, и я кивнула:
– Ну, раз так, пойдемте, я вас отвезу…
Мы вышли, сели в машину и поехали в больницу.
В городе было много пробок, ехали мы очень медленно. Татьяна Павловна какое-то время подавленно молчала, потом проговорила с долей смущения:
– Вы ведь, кажется, были рядом с Аней, когда она… когда это случилось… когда ее не стало?
– Ну да, рядом… – Я покосилась на нее.
– Она не страдала? Это… случилось быстро?
– Быстро… она упала, сказала несколько слов – и затихла. Я проверила пульс – а его уже не было…
– Несколько слов? – жадно переспросила моя спутница. – А что именно она сказала?
– Да что-то странное. Сначала – «Фиолетово», а потом «Висит» и «Ноги»…
– Ох! – Татьяна Павловна отшатнулась как от удара, резко побледнела, схватилась за сердце.
– Вам плохо? – забеспокоилась я.
Не хватало мне еще одной смерти! Не дай бог, она окочурится здесь, в машине, неприятностей потом не оберешься.
Машина не моя – это раз. И хоть все документы у меня в порядке, менты обязательно привяжутся. И затаскают по допросам. И машину заберут на экспертизу. А мне нужно Вику возить, потому что на общественном транспорте он ездить не может. Его там трясет, плющит и колбасит.
– Да, мне… мне правда нехорошо… – проговорила моя спутница прерывающимся голосом. – Мне бы кофе выпить… у меня низкое давление, чашка кофе помогла бы…