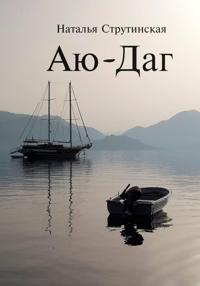Полная версия
Биография неизвестного
Мы просидели в кафе около получаса, обсуждая выступление отца и возможные последствия его обращения к прессе. Жанна почти все время прижималась к Боре, который, казалось, не замечал этого и продолжал вести с отцом дискуссию об исходе событий.
Вечером Боря вернулся довольно поздно – после лекции он еще некоторое время гулял с Жанной по Москве, а потом провожал ее на предпоследнюю в область электричку. Когда входная дверь квартиры хлопнула, я отложила в сторону свежий номер глянцевого журнала, поднялась с постели и вышла в коридор. Боря стягивал с ног ботинки, опершись ладонями обеих рук на стену.
– Мне нужно с тобой поговорить, – сказала я, прислонившись к дверному косяку и скрестив на груди руки.
– Давай чуть позже? – спросил Боря. Не раздевшись, он прошел мимо меня на кухню. – Я дико устал и очень хочу есть.
Я последовала за братом. Было начало первого ночи. Мама давно спала, а отец весь вечер не покидал своего кабинета.
Боря открыл холодильник, вытащил из него сковороду с жареной курицей и, не имея намерения разогреть ее, поставил на стол. Я опустилась на стул, наблюдая, как брат наливает из графина морс, берет из хлебницы небольшой ломтик хлеба и садится за стол, жадно принимаясь за еду. Откусив большой кусок курицы, не отрывая своего взгляда от сковороды, он стянул с себя куртку, откинул ее на спинку стула, после чего снова склонился над сковородой.
– Рассказывай, – промычал Боря с набитым ртом.
Глядя на брата, живого, счастливого, с горящими глазами и хорошим аппетитом, вся моя решимость поговорить с ним о Жанне медленно испарялась. Может быть, не нужно лезть в чужие отношения и доказывать слепому сердцу яркость незримых красок? Быть может, я и вовсе ошиблась в Жанне и совсем не правильно ее поняла? От того, что человек плохо воспитан, в нем не рождаются подлость и злоба. А в тот вечер, когда я сидела перед братом, когда гнев и растерянность уступили место усталости, мне казалось, что именно дурное воспитание подруги брата заставило ее произнести те кольнувшие меня слова об отце. В тот момент, когда Боря оторвал свой взгляд от сковороды и выжидательно посмотрел на меня, я решила отложить разговор о Жанне до времен, когда ее характер будет более понятен мне.
– Я беспокоюсь о папе, – сказала я, поднимая ноги на стул и кладя подбородок на колени. – Он весь вечер не выходил из кабинета.
Боря дожевал остатки курицы и отодвинул сковороду от себя.
– Все как-нибудь решится, – сказал он. – Я уже говорил ему, что еще рано делать какие-то выводы. Ему не был дан отказ…
– Но и согласия он не получал, – произнесла я. – Ты видел реакцию совета?
– Это удивление, испуг, – повел рукой Боря. – Все что угодно, но не реакция. Реакция будет завтра. – Брат внимательно посмотрел на меня. – Помнишь апрель десятого? Он тогда был уверен, что его сократят. Но ничего не случилось, даже более того – он стал деканом. – На лице Бори внезапно промелькнула улыбка, а взгляд стал мягким, почти ласковым. – Пойдем спать, – сказал он. – Завтра будет завтра.
ГЛАВА 16
Осень пахнет яблоками и листвой. Горят костры деревьев, треща искрами ветвей. Горит земля, укрытая сухими листьями, источающими живое пламя цвета. Колеблется оно под ногами, разлетаясь в густом облаке ветра, разносящего трепетное шелестение уже покинувшей его жизни.
Как и всякое время года, осень можно разглядеть лишь за городом, где воздух впитал в себя всю полноту ароматов леса, где земля выдыхает клубы туманов, готовясь к зиме. В городе же круглый год царит межсезонье.
В моей душе в ту пору под стать осенней многоликости и бесцветности господствовала двусмысленность. Многоликость событий моей жизни рождала в моем сердце противоречие, мучившее меня, а двоякость в расстановке запятых приводила меня в смятение.
Чувства, которые на протяжении двух с половиной месяцев все больше возрастали во мне, наполняя меня до краев, внезапно замерли, как замирает отступившее море, прежде чем бросить на сушу разрушающей силы волну. Так замирает зверек, загнанный в угол и в ожидании удара смотрящий на руку, которую занесли над ним.
Что есть страшнее удара в самое сердце? Только небольшой надрез там, где живет совесть. Но я пока не знала мук совести, а потому мне казалось, что ничто не может болеть сильнее, чем тронутое любовью сердце.
Сомнение – вот что еще питало во мне надежду. Сомнение, как ядовитый эликсир, снимало ноющую боль в груди, позволяя иногда дышать и видеть. Но более всего остального мне хотелось завязать себе глаза.
Это случилось в один из обеденных перерывов, которые мы с Альбиной проводили в ресторанчике, непринужденно болтая о всяческих пустяках. Альбина больше не делала попыток пригласить пообедать с нами Федора, а только время от времени, проходя мимо него, задевала его какой-нибудь едва слышанной мною фразой, на которую он только улыбался. Улыбалась и я, будто зная, о чем они говорят, и чувствуя себя при этом пятым колесом в телеге. Я молча наблюдала за их игрой, будто все это мне только снилось. Альбина вела себя так, словно все было само собой разумеющимся, не считая нужным что-либо мне рассказать. А я ее ни о чем не спрашивала. Так было до того злополучного обеда, во время которого я увидела в ее телефоне сообщение от Федора.
Обед подходил к концу, блюда были съедены, а чай выпит. Альбина, расплатившись за обед, поднялась из-за стола и направилась в дамскую комнату, оставив сумочку и телефон на столе. Я надевала на себя пальто, когда ее телефон неожиданно завибрировал. Невольно бросив на него свой взгляд, я увидела уведомление о новом сообщении и имя отправителя – Федор Коржавин. Сердце мое остановилось, а перед глазами потемнело, и я невольно оперлась на стол, чтобы не упасть. Следом за первым пришло еще одно сообщение с именем Федора в адресной строке. Сомнений быть не могло – Альбина поддерживала связь с Федором.
Всякая вера в будущность мгновенно испарилась, пространство лопнуло, а в сердце закралось сомнение. Какова была продолжительность этих переписок и какова была их природа?
Я сразу же вспомнила отношение Альбины к Федору, ее кокетливые взгляды и жеманные улыбки. Я вспомнила, с какой легкостью она пригласила его ходить на обеды с нами и как беззаботно она подшучивала над ним. Такое общение могут позволить себе люди, давно знакомые друг с другом и знающие друг о друге много больше, чем просто имя и фамилию. В тот момент я почувствовала себя обманутой, хуже того – я находила, что меня предали.
Я знала, что лицо мое побледнело. Глаза мои готовы были вот-вот наполниться слезами, а белые как полотно руки дрожали, дрожали и пальцы, касавшиеся поверхности стола там, где лежал телефон. Я смотрела на экран с горящим на нем именем, пока он не погас. Но и тогда я продолжала на него смотреть, будто вот-вот на нем появится один ответ на все вопросы, которые в тот момент родились во мне. Экран не загорался, – в его темной глубине содержалось сокровище, охраняемое сотнями ядовитых змей. Где-то в бесконечной паутине лучей затерялось движение чужого сердца, направленное не ко мне. В то мгновение я ясно осознала это, но старалась отогнать от себя эту мысль, отказываясь верить в нее.
Скоро вернулась Альбина, застав меня сидящей на прежнем месте, но уже в пальто и берете. Она улыбнулась мне, улыбнулась и я ей. Я наблюдала за тем, как Альбина взяла в руки телефон, как пальцы ее разблокировали экран. Я видела, как она читает текст, как губы ее дрожат в подобии улыбки. Она не написала ответа, лицо ее осталось бесстрастным, взгляд не выражал ничего. Она положила телефон в сумочку, оделась, и мы направились обратно в офис, продолжая прерванный несколько минут назад разговор, – несколько минут, ознаменовавших для меня окончание целой эпохи.
С того дня, словно узнав о терзавших меня мыслях, Альбина больше никогда не оставляла телефон без присмотра. Отлучаясь на несколько секунд, она брала его с собой, будто в любое мгновение ей могли позвонить и сообщить важную новость. Со своего места я могла видеть и ее, и Федора, но не находила в их общении и намека на какую-либо симпатию по отношению друг к другу. Каждый сидел на своем рабочем месте: Альбина иногда говорила по мобильному телефону (как я уже знала, с Егором), Федор время от времени относил куда-то документы, никогда не бросая даже короткого взгляда в сторону моей подруги. Все было как будто спокойно, словно и не было никаких сообщений и попыток со стороны Альбины приблизить к себе Федора.
Я не спрашивала Альбину о сообщениях, а она больше не рассказывала мне о Федоре, как делала это раньше. Она больше не обращала моего внимания на него, а я в разговоре никогда не упоминала о нем. Он будто вдруг стал для нас запретной темой, хотя ни одна из нас не произнесла ни слова по поводу этого. Мы продолжали ходить вместе обедать, возвращаться в одном троллейбусе с работы, смеяться и как будто беззаботно болтать, но появилась между нами некая напряженность, которой раньше не было. Я не могла сказать, чувствовала ли Альбина эту напряженность, но я ощущала ее совершенно определенно.
Однако, вопреки здравому смыслу, событие это не только не оттолкнуло меня от Альбины, но, напротив, как будто еще больше привязало меня к ней. Я все время старалась быть возле нее, даже старалась проводить с ней выходные, будто неосознанно стремясь тем самым расположить ее в поле видимости, чтобы знать наверняка, что она делает, кому пишет и с кем говорит. Кому-то такое мое поведение может показаться манией, сумасшествием, однако тогда я не анализировала своих действий. Я как завороженная следила за каждым ее шагом, как будто спрашивая саму себя: «Что в ней есть такого, чего нет во мне? Зачем ей это? Зачем она это делает?» – и как будто стремясь, будучи рядом с Альбиной, попасть в поле зрения Федора.
А что же делала я для того, чтобы обратить внимание Федора на себя и завоевать его расположение?
Никогда в жизни мне не приходилось чувствовать себя такой ненужной, игнорируемой, как в ту осень. Федор, несомненно, был хорошо воспитан, интеллигентно сложен и учтив, но абсолютно равнодушен ко мне. Я часто улыбалась ему, иной раз перекидываясь с ним парой слов. Он отвечал с улыбкой, отвечал спокойно и мягко, но односложно, не проявляя ко мне никакого интереса.
Глядя на себя в зеркало, я не находила ни одного изъяна в своей внешности. Я никогда не сомневалась в своей красоте, не наблюдала недостатка в уме и не была бездарной. Я всегда была окружена поклонниками, и внимание, проявляемое ими ко мне, необыкновенно возвышало меня в своих глазах. Теперь же я в недоумении рассматривала себя в большое зеркало, вмонтированное в стену над раковинами в дамской комнате офисного здания, и не могла понять, почему этот мужчина, пробудивший во мне сильнейшее из чувств, остается равнодушен ко мне. Что могло привлечь его в определенно менее красивой и менее умной Альбине? И тогда я пришла к единственно возможному ответу: дело было не в Федоре, а в самой Альбине.
Все это время она во что бы то ни стало стремилась завоевать расположение Федора, ведя себя с ним как лучший друг. Ее слова о том, что все это она делает для того, чтобы ближе познакомить меня с ним, потеряли всякий для меня смысл, когда, обсуждая с ней Глеба, я поймала ее короткий, едва уловимый взгляд, направленный на Федора и подкрепленный словами:
– Я тоже не люблю высоких и худых. Мне нравятся мужчины плотные, чтобы было за чем спрятаться. А еще больше нравится, когда все бегают за ним, а он бегает за мной, и тут уже становится не важно, худой он или плотный.
Так появилась двусмысленность в создавшемся между мной, Альбиной и Федором положении.
Положение это еще больше озадачило и даже испугало меня, когда в одну из пятниц Альбина, никогда не имевшая привычки опаздывать, приехала на работу к десяти часам утра. Бледная, с легким макияжем и совершенно бесцветными губами, но все же идеально уложенными волосами, она вошла в отдел, не посмотрев в мою сторону и ни с кем не поздоровавшись, прошла к своему рабочему месту, быстро включила компьютер и порывисто сняла с себя плотное пальто. Видеть ее такой было непривычно, и я, обеспокоенная поведением подруги, кричащем о том, что произошло что-то обескураживающее, оставила свою работу и подошла к ней. Альбина уставилась на меня, будто не узнавая и видя меня впервые, после чего взяла мои ладони в свои, крепко сжала их и произнесла:
– Мне нужно поговорить с тобой. Мне непременно нужно поговорить!
Мы спустились с ней в одну из кофеен на первом этаже здания и заказали кофе, к которому так никто и не притронулся. Людей в кофейне было мало – все давно позавтракали и теперь были полностью погружены в работу.
– Я рассталась с Егором, – сообщила Альбина, опустив полные слез глаза на чашку, а я мгновенно побледнела, будто мне поведали о скоропостижной кончине всего человечества.
Альбина говорила путано, обескровленные губы ее то и дело вздрагивали, грудь прерывисто вздымалась от беззвучных слез. Глаза, блестящие и печальные, были влажны, но слезы в них будто застыли, сделавшись тонкой пленкой льда.
– Все повторяется, Вера, – говорила она. – Все в жизни повторяется. Почему, как только начинаешь верить человеку, он непременно тебя кидает, будто это выведенная кем-то аксиома, которой все должны беспрекословно следовать? Он не стал объясняться со мной, сказав, что это низко для него. Он счел правильным провести вечер в компании какой-то своей подруги, солгав мне при этом. Он скрыл от меня, Вера! Он все от меня скрыл… Знаешь, каково это – стоять лицом к лицу с женщиной и слышать от нее, что человек, которого ты любишь, тебе лжет? Видеть ее самодовольное лицо и чувствовать себя униженной… Господи, да ведь я никогда еще такого стыда не испытывала! Лучше бы он сам мне все рассказал! А он только пожал плечами, сказав, что встретились они случайно. Возможно, это все безумство и я поступаю импульсивно, но как я могу верить человеку, который мне солгал? Как я могу связать с ним жизнь, если он вот так легко может уйти, сказав, что объясняться со мной для него низко?..
– Но, может быть, ему действительно не в чем оправдываться? – предположила я, отчаянно ища спасательный круг для тонущих отношений Егора и Альбины. – Все так легко сломать и так трудно выстроить заново…
– Я ему не верю, – твердила Альбина, при этих словах поднося к глазам платок и вытирая несуществующие слезы. – Не верю…
Альбине позвонила мама, и она, слезно рассказав ей все с начала, горько разрыдалась, громко всхлипывая.
– Я осталась совсем одна, – говорила она матери. – Как я буду одна, мама?..
Худая и маленькая, она как будто уменьшилась вдвое, и ее аккуратное, по-детски наивное в тот момент личико было глубоко несчастно. Мне стало жаль ее, и я положила свою руку поверх ее, крепко сжав ее пальцы. Все сомнения вмиг исчезли, исчезла и настороженность, растворилась в чувстве безграничного участия выжидающая напряженность. В тот момент Альбине нужна была поддержка близкого, и я поддержала ее, стараясь успокоить ее уговорами, тем самым стремясь спасти в глазах Альбины Егора, которого я ни разу в жизни не видела. Шаткое положение их отношений представлялось мне катастрофой, которая в любой момент могла обрушиться на и так бывшие эфемерными мои стремления завоевать расположение Федора. Я почему-то была совершенно уверена в том, что Альбина в случае разрыва не станет долго горевать, найдя утешение в объятиях моей мечты.
В тот вечер мы не поехали после работы домой, а доехали на метро до знакомого Альбине бара, выпили несколько рюмок текилы, которая крепко взялась за нас, провели полную музыки, света и мелькающих в темноте и танце рук ночь, после чего Альбина, едва волоча ноги, уехала на третьей утренней электричке, а я вернулась домой по пустым, наполненным седым туманом улицам. Было семь часов утра, когда я, не раздевшись, легла на свою постель, закуталась в одеяло и крепко заснула.
ГЛАВА 17
Проснулась я от того, что кто-то громко хлопнул дверью. Я приоткрыла глаза, силясь придать своей комнате четкие очертания. Но все выглядело смутным, взгляд мой не фокусировался ни на чем, а голова была неподъемной, так что я, с трудом оторвав щеку от подушки, не смогла сразу подняться, а только перевернулась на спину и уставилась в потолок.
Снова раздался хлопок. Но на этот раз я поняла, что это была не дверь, – кто-то стучал на улице, что-то заколачивая с глухим треском. Обернувшись к окну, я зажмурилась, потому как бледный свет пасмурного дня показался мне ослепительно ярким.
Приложив ладонь ко лбу, я медленно поднялась на постели. Одета я была в блузку и узкую юбку. Пиджак мой лежал на пуфе рядом со столом. Облизав сухие губы, я снова зажмурилась и хотела потереть глаза, но вовремя вспомнила, что они накрашены. Я опустила ноги на пол и села на край кровати. Несколько минут я сидела так, ни о чем не думая. Все казалось мне ненастоящим, будто ничего и не было вовсе, а был только сон – долгий-долгий сон, который отчаянно не хотел меня покидать.
Усилием воли я поднялась с кровати, расстегнула блузку, блуждая по комнате в поисках домашнего костюма, стянула юбку и сунула ноги в плюшевые тапочки. Я бесшумно открыла дверь, будто могла кого-то разбудить, однако в квартире было тихо. Проходя в ванную комнату мимо кухни, я невольно заглянула в нее. Глаза мои встретились с глазами мамы, которая тихо сидела за столом. Я вздрогнула.
– Ты меня напугала, – выдохнула я. Голос мой был глухим, хриплым.
Мама опустила глаза на чашку с чаем, которую держала в руках.
– А ты напугала меня, – сказала она. – Где ты была вчера?
Я прошла на кухню и села напротив мамы.
– Прости, я забыла позвонить, – произнесла я упавшим голосом, избегая встречаться с мамой взглядом. – Я была с Альбиной. Мы были в баре.
Мама ответила не сразу. Я чувствовала на себе ее взгляд, но не решалась поднять глаза.
– Позвони отцу, – сказала она. У меня было чувство, будто она сказала не то, что хотела. – Он не спал всю ночь, ждал тебя.
– Где он? – спросила я, встретившись с мамой взглядом.
– На кафедре.
– Который час?
– Начало второго.
Я во все глаза уставилась на маму.
– Как – начало второго? – охнула я, вскакивая со стула.
Часы на комоде в прихожей показывали четверть второго. Сердце у меня упало. Накануне я списалась с Этти, подтвердив нашу встречу в Lilla rosso в полдень следующего дня. Я забыла не только о родителях, но и о лучшей подруге.
Я бросилась в свою комнату, открыла сумочку и достала из нее разрядившийся телефон. Заряжать его у меня не было времени, так что, выругавшись, я кинула его на кровать. Распахнув шкаф, я достала из него простое шерстяное платье, быстро переоделась, взбив по пути волосы. Остановившись на секунду у зеркала, я смахнула с щек осыпавшуюся тушь, после чего схватила пальто, бросив на ходу застывшей у двери на кухню маме, что я заеду позже к отцу в университет, и вылетела из квартиры.
Застегивая пальто, я бежала по узким улицам Москвы, перед едущими автомобилями и звенящими трамваями. Стрелки на часах двигались предательски быстро, а я надеялась, что Этти, так же как и я ее, подождет меня, пусть даже ожидание это продлится несколько дольше. Сбивая пешеходов и задыхаясь от бега, скоро я расстегнула пальто, потому что мне стало жарко.
Я успокаивала себя мыслью, что Этти сотни раз опаздывала и никогда не извинялась, а я всегда преданно ждала ее, уже давно бросив впустую обвинять ее в непунктуальности. Обвинения эти все равно никак не воздействовали на нее, а только заставляли меня раздражаться. Не задумываться о мелких несовершенствах любимого человека намного лучше, чем предаваться пустым рассуждениям о них, потому как рассуждения эти приводят только к взаимным обидам. Человека невозможно исправить, и я давно решила для себя, что принимаю Этти со всеми ее несовершенствами.
Подходя ко входу в кафе Lilla rosso, я заглянула в окно и бросила взгляд на столик, за которым мы всегда обедали с Этти. Столик был пуст. Я зашла в кафе и, будто желая удостовериться в этом, подошла к столику, возле которого одиноко темнели два стула. Ни намека на то, что Этти была здесь.
Чувствуя себя виноватой перед подругой, я решила пойти к ней домой.
Я слышала, как за темно-коричневой дверью квартиры прозвенел звонок. Несколько мгновений я стояла, слушая его отдаленное эхо. Когда звонок затих и наступила тишина, я снова нажала на кнопку.
Щелкнул замок, дверь открылась, и я увидела круглые глаза Этти. Она была в простой футболке и спортивных брюках, с небрежно собранными в пучок волосами, – одним словом, будто только недавно встала с постели и никуда в тот день не собиралась идти. Она застыла на пороге, вопросительно глядя на меня.
– Привет… – Голос ее прозвучал пораженно, в глазах застыло удивление.
– Привет, – часто дыша, сказала я. – Я… немного опоздала… Когда я пришла, тебя уже не было…
– Подожди, – Этти жестом заставила меня замолчать. Она улыбнулась, коротко оглянувшись: – Ты о чем?
Наступила моя очередь удивленно смотреть на нее.
– Я о кафе, – выдохнула я. – Я не пришла к двенадцати…
Этти шумно вздохнула.
– Так ты не получила мое сообщение?
– Какое сообщение?
Этти переступила с ноги на ногу и посмотрела на меня так, как смотрят на детей, когда те наивно просят объяснить им самые простые вещи.
– Я написала тебе утром сообщение, – сказала она, – о том, что я не смогу с тобой встретиться сегодня, потому что еду с родителями выбирать себе новый туалетный столик.
– Туалетный столик?.. – на автомате повторила я ее последние слова.
– Да, мой старый весь истерся, – пожала плечами Этти. – И вообще, уже хочется что-нибудь изменить в своей комнате…
– Да… – Я почувствовала, как мои губы конвульсивно дрогнули в улыбке.
– Одним словом, хочется перемен. – Моя улыбка, вероятно, подбодрила Этти, потому как удивление на ее лице сменилось воодушевлением. – Я вообще решила сделать небольшую перестановку в своей комнате: поменять ковры, перебрать все ящики…
– Мне пора идти, – перебила я Этти и натянуто улыбнулась: – Удачно съездить за туалетным столиком.
– Спасибо! – счастливо улыбнулась мне Этти, искренне не заметившая сарказма в моем голосе.
Я вышла из подъезда Этти, чувствуя себя совершенно раздавленной. Я не могла точно определить, что именно так сдавливало мое горло, но слезы, постепенно наполнявшие глаза, душили меня. Я старалась глубоко и спокойно дышать, чтобы не позволить слезам пролиться из глаз. Я никогда больше не чувствовала себя так одиноко, как в тот день.
Невидящим взором скользя по фасадам домов и лицам прохожих, я шла к метро. Нос сам собой покраснел от промозглого осеннего холода, а пронизывающий ветер сушил глаза, и потому можно было уже не бояться, что кто-то увидит в них слезы.
Невидящим взором я скользила по лицам прохожих и думала о том, видят ли их глаза кого-нибудь вокруг? Неужели и вправду всякий человек занят лишь своей жизнью, принуждая себя к одиночеству и обрекая на одиночество других?
Есть ли что-то настоящее в этом мире? Что-то, во что можно поверить, вложив в это «что-то» всего себя? Что никогда не обманет и не обернется скрытой от глаз стороной? Что будет верно своим словам и мыслям? Что будет истинным и неизменным, а не плодом воображения?
Быть может, и дружба, и любовь – всего лишь отражение других в нас самих? Они, не знающие живительного воздуха атмосферы, есть только в нас, и только мы, вдохновленные этими высокими чувствами, способны знать их меру, смысл и предназначение? И оттого нет точного определения ни дружбы, ни любви, – есть только не имеющее материи облако, покрывающее человечество.
Но есть у них одно проявление, которое связывает их и без которого они не могут существовать, – самоотдача. Отдавать что-либо, не прося ничего взамен, – великое счастье и истинная сущность сердца, вдыхающего в тело жизнь. Как невыносимо скучна, безлика и порой жестока становится жизнь, когда наше существо требует ответа, когда в памяти всплывают содеянные нами добрые дела, а язык посредством грубой речи упрекает ими кого-то, сбрасывая со счетов все настоящее, исконное, что только может быть в человеке. И человек становится пуст, жизнь его теряет цвет, все кажутся неблагодарными. Но благодарность, как и всякое чувство, есть только в нас; не нужно ждать, пока она обретет форму, – это невозможно, потому как такова природа всего нематериального. Благодарность есть ответ на самоотдачу, ответ себе, и оттого живительный и вдохновляющий. Внутри нас есть баланс, который мы по неопытности своей и по незнанию нарушаем сами, ища ответы не в себе, а в других.
Я всегда считала, что Этти легко относится к жизни и никогда не задумывается об ответах на вопросы, которые жизнь так часто ставит перед человеком. Сначала я жалела Этти, находя объяснение этому в укладе ее жизни, продиктованном властным отцом и лишающем ее свободомыслия. Потом безвольность Этти и ее смиренность стали вызывать во мне раздражение: почему она не противится этому? Почему не стремится освободиться от пленяющих ее уз, найдя в себе свое «я» и обозначив его границы? Но теперь во мне родился ответ на все эти вопросы, поразивший меня своей простотой и озадачивший своей жестокостью: Этти, добрая, благодушная и отзывчивая, обладала самым страшным пороком человека – безразличием. Она жила только своим миром, послушно следуя указаниям, которым привыкла следовать с детства. Она не взаимодействовала с миром, и мир не взаимодействовал с ней. И она, окруженная всеми благами жизни, была бесконечно одинока в своей золотой клетке, не находя в себе этой своей безразличности и не замечая наступления того паралича, который совсем скоро мог сковать ее душу.