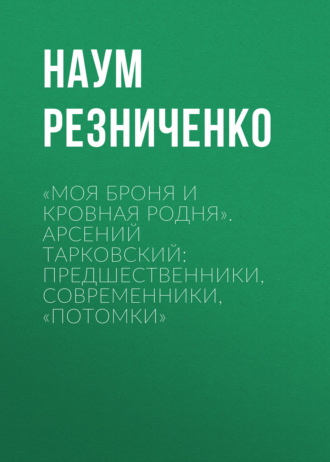
Полная версия
«Моя броня и кровная родня». Арсений Тарковский: предшественники, современники, «потомки»
Что называется, «оговорка по Фрейду»: в стихотворении «Титания», где развёрнут образ посмертного приюта поэта, Тарковский окликает Пушкина, цитируя его тематически близкое стихотворение.
Тарковский:
Кончаются мои скитания.Я в лабиринт корней войдуИ твой престол найду, Титания,В твоей державе пропаду.Что мне в моём погибшем имени?Твой ржавый лист – моя броня.Кляни меня, но не гони меня,Убей, но не гони меня.(I, 147)Пушкин:
Что в имени тебе моём?Оно умрёт, как шум печальныйВолны, плеснувшей в берег дальный,Как звук ночной в лесу глухом.Помимо «лесного» топоса смерти, стихотворения сближает образ «листка» ⁄ «листа» – «ржавого» и «памятного», древесного и бумажного – и в том, и в другом случае поэтического артефакта, материального носителя памяти об ушедшем поэте.
Пушкинский «след» можно найти и в «эсхатологическом» стихотворении «Степь», запечатлевшем новую космогоническую мистерию, в которой, в отличие от библейской Книги Бытия, главная «креативная» роль отведена Адаму.
Дохнёт репейника ресница,Сверкнёт кузнечика седло,Как радугу, степная птицаРасчешет сонное крыло.И в сизом молоке по плечиИз рая выйдет в степь АдамИ дар прямой разумной речиВернёт и птицам и камням,Любовный бред самосознаньяВдохнёт, как душу, в корни трав,Трепещущие их названьяЕщё во сне пересоздав.(I, 67–68)У Тарковского Адам – это и первый человек, и первый поэт, и поэт вообще, вдыхающий «душу живую» в Божью тварь и сам являющийся богоподобной творческой личностью, одушевляющей «немую плоть предметов и явлений» (I, 190) и возвращающей им «дар прямой разумной речи». В отличие от библейского Адама, усыплённого Богом, чтобы безболезненно сотворить из его ребра женщину, Адам Тарковского сам творит во сне – пересоздаёт мир, даруя новые имена – «трепещущие названья», что делает его очень похожим на поэта пушкинской «Осени»:
И забываю мир – и в сладкой тишинеЯ сладко усыплён моим воображеньем,И пробуждается поэзия во мне:Душа стесняется лирическим волненьем,Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,Излиться наконец свободным проявленьем <…>Пушкинские контексты переполняют лирику Тарковского как драгоценные свидетельства глубокого и вдохновенного творческого диалога. «Степная дудка» втягивает в свой поэтический континуум «Цыган», «К Овидию» и «Эхо», «Снежная ночь в Вене» вызывает зловещую тень Изоры из «Моцарта и Сальери», а «Весенняя Пиковая дама» – «фантастического игрока» Германна. В «Полевом госпитале» и «Приазовье» резонирует сюжет инициации из «Пророка», а «Меркнет зрение – сила моя…» воспринимается как его финал-катарсис. «Балет» побуждает вспомнить «театральные строки» из первой главы «Онегина», а «Юродивый в 1918 году» – одноименного персонажа из «Бориса Годунова». «Серебряные руки» указуют на «Жениха» как на один из вероятных сюжетных источников; «Я вспомнил далёкие годы…» – на «Сеятеля» («Свободы сеятель пустынный…»); цикл стихов, посвящённых памяти умершей возлюбленной («Песня», «Ветер», «Первые свидания», «Эвридика» и др.), перекликается с «Заклинанием» и «Для берегов отчизны дальней…», а его «ночной» хронотоп корреспондирует с «Воспоминанием» – стихотворением, особенно любимым Тарковским у Пушкина.
В случае надобности Тарковский мобилизует и пушкинские эпиграммы. Так, в заключительной строке, пожалуй, самого «злого» его стихотворения «Елена Молоховец» («Полубайстрючка, полубла-городная…») легко прочитывается претекст – известная эпиграмма «Полу-милорд, полу-купец…», адресованная М.С. Воронцову[22].
Скрытые пушкинские реминисценции содержатся и в неопубликованных стихах Тарковского: «Огонь и трубы медные прошёл…» перекликается с саркастическим посланием «К Вяземскому» («Так море, древний душегубец…»); «К тетради стихов» – с прощальными лицейскими посланиями выпускного 1817 года; «Что в правде доброго? Причина ссор…» – с горьким четверостишием о дружбе 1825 года («Что дружба? Лёгкий пыл похмелья…»).
Тарковский вспомнит о Пушкине на закате жизни, репродуцировав древесные образы из «Вновь я посетил…» в одном из своих «прощальных» стихотворений:
Ночью медленно время идёт.Завершается год високосный.Чуют жилами старые сосныВешних смол коченеющий лёд.Хватит мне повседневных забот,А другого мне счастья не надо.Я-то знаю: и там, за оградой,Чей-нибудь завершается год.Знаю: новая роща встаётТам, где сосны кончаются наши.Тяжелы чёрно-белые чаши,Чуют жилами срок и черёд.(I, 347)В это же время писались «Пушкинские эпиграфы» – итоговый лирический цикл из четырёх стихотворений, объединённых пушкинскими темами и образами, ставшими точкой отталкивания и духовной опорой для мучительных раздумий поэта о смысле пройденного пути. Именно эта тема – тема пути поэта, поиска «цели» и «смысла бытия», хождения души по мытарствам и насыщения её всеми земными страданиями («солью и жёлчью земной»), ставшими источником поэтической «песни» и «пропуском» в небесные «ворота», – определяет, по «формуле» Пушкина, «лирическое движение» художественного целого. Вектор его задан уже в первом тексте, которому предпослан эпиграф из «Зимнего вечера»:
Спой мне песню, как синицаТихо за морем жила…Здесь возникает центральный лейтмотив поэтической «тетралогии» – душа в тюрьме-темнице, вырывающаяся на свободу.
Тюрьма-темница представлена в цикле в нескольких экзистенциальных ипостасях: то как «ненадёжное жильё» тела человека, «сердце тесное моё»; то как «яма-клетка», где томится поэт и душа изнывает в «полусне» и «лености сердца»; то как плен отчаянья и нищеты духа, обречённого на бессмысленное существование и забвение; то как «снежный, полный весёлости мир», где
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,За душой, как за призом, гнались.(1,331)В заключительном стихотворении этот перечень расширен за счёт инвариантных «филиалов» мира-тюрьмы, в роли которых выступают: 1) магазин с его меркантильным духом наживы («В магазине меня обсчитали: ⁄ Мой целковый кассирше нужней»); 2) тир – жестокий и циничный аттракцион, когда убивают не ради приза, а для забавы – «безвозмездно» («Хорошо мне изранили тело ⁄ И не взяли за то ни копья»); 3) сети лжи-клеветы, мимикрирующей под чистую, «как бирюза», правду и дружеское расположение («Наилучшие люди на свете ⁄ С царской щедростью лгали в глаза»); 4) наконец, собственно пушкинский образ – сундуки скупого рыцаря, живущего «в погребах, как крот в ущельях подземельных»[23].
Преодолевая «ловушки» и соблазны мира, поэт Тарковского обретает духовную свободу и «право на прямую свободную речь». Но путь, который проходит герой, как он выстроен в «Пушкинских эпиграфах», далёк от траектории неуклонного духовного восхождения. Здесь уместно вспомнить слова Блока из статьи «Душа писателя»: «<…> душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его – только внешние результаты подземного роста души. Потому путь развития может представляться прямым только в перспективе, следуя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности, вследствие постоянных остановок и искривлений» [24].
Такие «остановки и искривления» являет каждое из четырёх стихотворений, входящих в цикл. Но, по-пушкински сближая противоречия, Тарковский прозревает обретения – в потерях, смысл – в кажущейся бессмыслице жизни, счастье – в безмерных земных страданиях. Жгучая потребность в экзистенциальных опорах, побудившая поэта обратиться к великому предшественнику, задавая пушкинскому циклу «эвристический» художнический пафос, оборачивается духовным прозрением на путях диалектического осмысления мира и личного опыта жизни. На глазах читателя частная поэтическая биография «прорастает» в эпоху, отчаянные духовные блуждания – в поиск пути, в ходе которого рушатся все однозначные философско-этические и эстетические оценки бытия[25].
Этапы борений человеческого духа, которые запечатлели «Пушкинские эпиграфы», могут быть описаны опять-таки языком символиста Блока: «<…> от мгновения слишком яркого света – через необходимый болотистый лес – к отчаянию, проклятиям, «возмездию» и <…>– к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы <…> вглядываться в контуры «добра и зла» – ценою утраты части души»[26].
Разумеется, не может быть и речи о полной проекции блоковской «периодизации» крестного пути поэта на пушкинский цикл Тарковского, равно как и на его творческий путь в целом. Исследователи вообще не склонны говорить о какой-либо существенной эволюции лирического стиля Тарковского, тем более об идее пути как эстетико-идеологической составляющей его поэтической системы. Но мы вправе говорить об общности идейно-философского «вектора» «Пушкинских эпиграфов» и «трилогии вочеловеченья»: от надежды («Пой, душа, тебя простят») – через страдание, плен, духовную «яму» – крайнее экзистенциальное отчаяние – к обретённому в крестных муках «праву на прямую свободную речь», на творческую свободу как на высший смысл человеческой жизни – «ценою утраты части души».
В первом стихотворении душа-«сестрица»-«птица»-«бродяжка»-«синица» – «певица»-небесная жилица вместо божественного нектара полной мерою пьёт «земную боль, и соль, и жёлчь», смертельную горечь которой не заесть никаким хлебом-пшеницей-«амброзией»: её колосья побиты градом и сокрыты под снежным саваном мертвящей зимы:
Пой, бродяжка, пой, синица,Для которой корма нет,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Знаком (*) помечены главы, вошедшие в состав нашей первой книги о поэзии А.А.Тарковского. См.: Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды»: Мифопоэтика Арсения Тарковского. Нежин – Киев: Изд. Н.М. Лысенко, 2014.
2
Тарковский А.А. Собр. соч.: В 3 т. T. 2. М.: Художественная литература, 1991. С. 241. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках тома и страницы римской и арабской цифрами. Курсив в цитатах мой – Н.Р.
3
Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2 т. T. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 169–171. В дальнейшем все цитаты из произведений Мандельштама приводятся по этому изданию с указанием в скобках тома и страницы арабскими цифрами.
4
См.: Мансков С.А. Поэтический мир А.А. Тарковского (Лирический субъект. Категориальность. Диалог сознаний). Дис… канд. филол. наук. Барнаул, 1999. С. 120–123.
5
Там же. С. 122.
6
Ср.: «Я <…> очень люблю греческую драматургию, лирику, эпос. «Илиада» и «Одиссея» для меня святые книги. Невольно чувствуешь себя современником того, что там происходило» (II, 241).
7
«Я жил и пел когда-то…»: Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. Томск.: Водолей, 1999. С. 318.
8
Жирмунская Тамара. «Спасти шмеля!» (Арсений Тарковский) // Эолова арфа: Лит. альманах. Вып. 5. М.: Изд. Нины Красновой, 2012. С.83.
9
О влиянии идей Г. Сковороды на поэтическую антропологию и аксиологию А. Тарковского см.: 1) Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре поэзии А. Тарковского // Категории и концепты славянской культуры. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2007. С. 61–72; 2) Лицарева К.С. Концепция самосознания личности в творческом наследии Г. Сковороды и А. Тарковского // Славянские литературы в контексте истории мировой литературы. М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 49–52.
10
Ср. из эссе Тарковского о Байроне: «Биография художника, в случае соответствия жизненного подвига подвигу литературному, обогащает произведение искусства, придаёт ему новую силу, новую кровь, новое значение. Личность поэта, как мы видим это на примере Байрона, исходит, как свет, изо всего, что им создано, порождая новые соотношения» (II, 215).
11
Ср. подобное отношение к имени Пушкина в поэзии Мандельштама. См.: Сурат Ирина. Мандельштам и Пушкин. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 90–92.
12
Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре поэзии А. Тарковского. С. 69.
13
Подробнее: Тарковская М.А. Осколки зеркала. М.: Вагриус, 2006. С. 268–272.
14
Подробнее: Там же. С. 273–275.
15
Подробнее: 1) Педиконе П., Лавр ин А. Тарковские: Отец и сын в зеркале судьбы. М.: ЭНАС, 2008. С. 31–32; 2) Резниченко Н.А. «От земли до высокой звезды». С. 85–98.
16
См.: Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвящённой 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама. М.: Изд-во РГГУ, 2001. С. 282–316.
17
Скворцов Артём. «Поэт» Арсения Тарковского: от реального – к идеальному // Вопросы литературы, 2011, № 5. С. 284.
18
Ср.: «Если верить в переселение душ, то в меня переселился кто-нибудь из небольших поэтов – Дельвиг, быть может… Я бы предпочёл, чтобы это был Данте, но он не переселился. Или Моцарт хотя бы» (II, 245).
19
Тема корабля и его образных производных (ладья, ковчег) в сопряжении с темой судьбы поэта и поэтического труда – один из лейтмотивов лирики Тарковского («Порой по улице бредёшь…», «Вторая ода», «Поэты», «Я тень из тех теней, которые, однажды…», «Памяти Ахматовой» (3), «Могила поэта» и др.).
20
Зорин Александр. Портрет поэта под созвездием Большого Пса // Литература, 1997, № 24. С. 14.
21
О сокрытом в строке о перстне имени Пушкина см.: 1) Сурат Ирина. Мандельштам и Пушкин. С. 91; 2) Мандельштам Н.Я. Комментарии к стихам 1930–1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990. С. 223–224. Другие интерпретации указанной строки см.: 1) Кацис Л. «Дайте Тютчеву стрекозу…» (Из комментария к возможному подтексту) // «Сохрани мою речь…». М.: Обновление, 1991. С. 78–79; 2) Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев: Эльга – И; Ника – Центр, 2000. С. 399–400; 3) Амелин Г.Г., Мордерер В.Я. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 29–30.
22
Впервые указано С. Руссовой. См.: Руссова С. Н. Н. Заболоцкий и А. Тарковский. Опыт сопоставления. Киев, 1999. С. 24.
23
Строки из послания Г. Державина «К Скопихину» («Престань и ты жить в погребах, ⁄ Как крот в ущельях подземельных»), которые были эпиграфом к трагедии «Скупой рыцарь» в её черновом варианте.
24
Блок А.А. Искусство и революция. М.: Современник, 1979. С. 133.
25
О том, как это происходит в поэзии самого Пушкина, блестяще показано нижегородским исследователем В. Грехнёвым. См.: Грехнёв В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина (1830 год). Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1977.
26
Из письма Андрею Белому от 6 июня 1911 г. // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. T. 8. М.: Художественная литература, 1961. С. 344.



