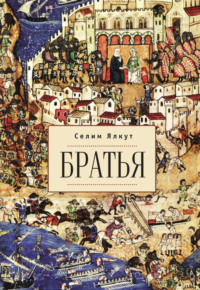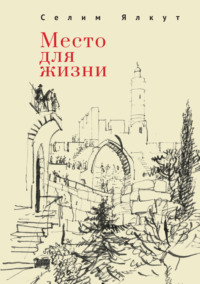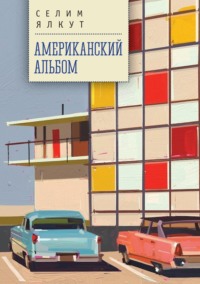Полная версия
Ампрант
А пока прибыли и расположились. Лежали на пляжике, и разомлевшая Валя наблюдала, как Генрих Матвеевич, чуть надавливая, изучает небольшой прыщик подмышкой слева. Даже царапнул красивым ногтем розовую пуговку, потом, приставив руку к нездоровому месту, проверил: трет или не трет, и даже убедившись, что не трет, удерживал руку чуть на отлете. Просто на всякий случай, пока они не вернулись в дом, и Генрих Матвеевич не прижег прыщик одеколоном.
Наконец, уселись ужинать. Но прежде Генрих Матвеевич поднялся на второй этаж и вернулся к столу в легких брюках цвета беж и в белой трикотажной майке с воротником. На левой груди было выбито не заветное для многих название Адидас, нет, а изображена похожая на улитку эмблема самого Пьера Кордена – магический знак приобщения к самой изысканной и утонченной моде, которая доступна или даже заслужена (так точнее) у нас очень и очень немногими. И итальянские кроссовки украшали ноги Генриха Матвеевича, причем левая, как он посетовал, еще должна была разноситься, а пока чуть жала, создавая некоторый дискомфорт, который Генрих Матвеевич должен был стойко терпеть. Как истинный теннисист, он просто не мог позволить, даже мысленно не мог допустить ношения другой, пусть даже более удобной для примитивного взгляда обуви. Естественно, те, кто побывал на месте Генриха Матвеевича, не могут его не понять. А другим, как, в частности, Вале, предстоит не раз убеждаться по мере приобщения. Главное – стиль, и еще раз – стиль.
Валя тоже переоделась, вернее, натянула на высохший купальник некий наряд, пусть не столь изысканный, как у Генриха Матвеевича, но выгодно оттеняющий немалые достоинства, в первую очередь, глубоко декольтированную грудь, сохранившую молодую форму, не квелую, не оплывшую, а теперь слегка разрумяненную пляжным солнцем. Поэтому, готовясь к ужину, Валя дополнительно протерла облученные места парфюмерией, а теперь скашивала глаза и обдувала сквозь трогательно сложенные губы. И Генрих Матвеевич раз за разом проявлял интерес и норовил проверить местную температуру тылом ладони. Должен же он, как хозяин дома, нести ответственность за свою гостью? В самом благородном смысле.
Во всем этом была не застенчивость и не жеманство, а именно пикантность, интрига волнующей игры, эманация некоей энергии, которая, как утверждают теоретики, доступна чувственному опыту и называется совмещением биополей. И очень кстати, что Генрих Матвеевич заговорил о парижанках. О некоем головокружительном, неповторимом, невыразимом на нашем языке эспри. Действительно, хоть велик и могуч наш отечественный язык, а выразить – не получается, чтобы связать в единое понятие: раскованность, стиль, умение нравиться и превратить знакомство, даже обольщение в изящную, легкую игру. Нет такого слова в нашем языке, и, видно, не случайно. Массовое одновременное присутствие таких черт в народе (а женщины – его лучшая часть!) и создают эспри, а вместе с ним неповторимый изысканный колорит, присущий лишь утонченным, даже упадническим культурам. Хотите пример? Как же это объяснить? Ага, вот. Когда можешь подойти на улице к понравившейся женщине и получить ее согласие на знакомство или даже отказ (для примера отказ даже лучше), но отказ вежливый, корректный, с извиняющейся улыбкой, без крика и риска нарваться на прямое оскорбление или хамство. Разные там: козел, пошел ты… и прочие вульгаризмы. Вы понимаете? Об этом и речь. Не следует, конечно, рассматривать этот пример примитивно, в нем скрыто гораздо более того, чем сказано. Здесь есть аромат, предчувствие. Пусть трудноуловимое, но есть. Качественно более высоких, сложных и одновременно более простых в своей утонченности отношений между мужчиной и женщиной. Ощущение их, как глотка хорошего коньяка, удержанного во рту и будоражащего кровь, а не заглоченного залпом в желудок, с вытаращенными глазами, над горой сваленной в тарелку закуски, чтобы, не дай бог, сразу не окосеть.
– В наших женщинах, – вещал Генрих Матвеевич, – это замечательное свойство, эспри встречается крайне редко, оно уникально и, на удивление, неразвито. Увы, это так. И трудно ждать быстрого прогресса среди озабоченных и загнанных бытом современниц. Потому замечательно, что сильные и энергичные признаки этого свойства Генрих Матвеевич, как опытный селекционер, обнаружил именно в Вале. И оценивает свое открытие вполне объективно, без понятного желания сделать комплимент, ибо сказанное куда весомее и выше.
Кропя елеем, Генрих Матвеевич разжег камин (был и камин), и они сели за стол. При свечах. Причем Генрих Матвеевич не преминул еще раз проявить заботу о Валиной груди. В полумраке цвет раздраженной кожи стал неразличим, а личное участие Генриха Матвеевича могло понадобиться. Свечи и камин освещали комнату, придавая и обстановке, и атмосфере застолья некую торжественность, будто то, что ждало их после ужина, было вызвано не влюбленностью и Валиным благодарным желанием, а особым ритуалом посвящения, сродни клятве или жертвоприношению. От странного ощущения этих минут, застывшей метафоры, неспособной развоплотиться в конкретный образ времени и места, у Вали стало ломить шею, а само эспри, так счастливо обнаруженное Генрихом Матвеевичем среди ее многочисленных достоинств, стало казаться досадным недоразумением. Будто это не она еще недавно была счастлива этим открытием. А Генрих Матвеевич, не замечая, гнул свое. Включил проигрыватель и значительно, как объявлял в машине фамилии поэтов, провозгласил: Скарлатти. Выждав первые такты, и как бы расставляя пальцем мелодические акценты, он достал начатую ими бутылку коньяка и предложил: – Еще Камю? По рюмке они выпили перед пляжем и самое время было пропустить по второй. Причем лучше водки, да, именно, водки, так как аппетит у Вали разыгрался, а для таких случаев водка была проверенней и надежней. Но она уступила, махнула рукой, чтобы наливал, а сама стала рассматривать стол, выбирая закуску. И взгляд ее ударил в сырокопченую. Будто током.
Ох, эти возможности в потреблении дефицита. Пусть даже официально и по ранжиру. Раз в месяц, раз в квартал. Кому по килограмму, кому больше, прямо на дом и в холодильник. Какую глупую шутку сыграла сырокопченая в тот вечер с Генрихом Матвеевичем. Как быстро и жестоко разрушила она тщательно возводимое здание. Ведь достроить оставалось всего ничего. Разве только фигурально положить последнюю черепицу и освятить сдачу готового объекта бутылкой шампанского. И сама бутылка была припасена для такого случая. Не какого-нибудь, а именно Брют, которое не просто пьют, а скорее приобщают к будущей изысканной жизни. Как и духами Диорелла, которые Генрих Матвеевич, не сомневаясь, пустил бы в ход. Правда, не сразу, не сегодня, а попозже, когда Валино место в его жизни будет определено более точно и конкретно. Потому что именно Диорелла, а не, например, Диорама или другие парфюмерные изделия знаменитого Диора, и была его любимым запахом, или, если хотите, ароматом. Но сейчас, пока Генрих Матвеевич токовал о преимуществах итальянской мужской моды над французской – да, да, это только кажется парадоксом, и Валя сама сможет в этом убедиться, также как и в том, что в женской моде французам действительно нет равных, и в этом тоже нужно быть объективным, – пока плавно лился этот разговор, Валя медленно жевала сырокопченую и вспоминала вкус молодецких ананасовских поцелуев.
Не удивительно, что в тот вечер у них ничего не вышло. Все было спущено на тормозах, хоть вызвало недоумение и, возможно, даже досаду Генриха Матвеевича. В двенадцать Валя уже была дома, где застала сморенного газетой Ананасова. Тот спал пока на диване, не раздеваясь, в шерстяном спортивном костюме местной фабрики Спартак, купленном для будущих спортивных пробежек. Как раз в эти дни Ананасов стал подозрительно следить за фигурой, но еще не мог преодолеть лени и сейчас эксплуатировал костюм не по назначению. И это летом! Было с кем сравнить. Валя снова чмокнула мужа в лоб, испытывая, как ни странно, именно сейчас, угрызения совести, которых не было утром.
И все же это была лишь последняя судорога измученной соблазнами добродетели. Жизнь берет свое, и нельзя обминуть то, чему положено случиться. Конечно, ночной побег Вали из коттеджа нарушил бережно созидаемую гармонию и произвел ненужный, болезненный надрыв. Теперь предстояло его лечить и зализывать, чтобы вернуться на брошенные рубежи. Обо всем этом Валя думала на следующее утро, лежа в постели рядом с посапывающим мужем.
Ясно, Генрих Матвеевич был не из тех мужчин, которыми можно бросаться. Если он сам предложил свое чувство, бросил, так сказать, к ногам, пренебрегать этим было никак нельзя. Можно, ведь, и пробросаться. Многие женщины Валю бы не поняли. Не поняли, и все тут. Даже со ссылкой на сырокопченую и другие воспоминания молодости. Ну и что? Пожали бы плечиками и справедливо заметили, молодость прошла, а воспоминания – всего лишь сорванный цветок, пусть, красивый, но когда? а теперь безнадежно увядший, утративший аромат. Никто не предлагает его выбрасывать. Наоборот, следует засушить и сберечь, чтобы на склоне лет рассматривать собранный гербарий. Но сейчас… Извините, причем здесь реальная жизнь? Время для других цветов. И, конечно, можно понять Генриха Матвеевича. Он должен был почувствовать себя задетым, хоть, пропитанный джентельменством, этого никак не показал. Он не дрогнул, не проскрипел зубами, хоть обиду можно представить. Долго он приглядывался к Вале, изучал характер, привычки, вкусы, примерял, как бы, на себя. Может быть, даже колебался, да-нет, нет-да, пока, наконец, решился. И после этого сколько было проявлено такта, чуткости, внимания к переменчивой женской натуре. И, попутно заметим, не какую-нибудь интеллектуалку или консерваторку выбрал он для себя, в женщину, хоть красивую, видную, но простую, сибирскую, потершуюся, конечно, в городе, но ведь, простите, где? – не среди бомонда или актива, а, все больше, в очередях и городском транспорте. И он это видел, понимал, но закрыл глаза. Значит, и дальше предполагал трудиться, поднимать до своего уровня, прививать манеры. Все было обдумано, взвешено. И вот, когда подготовка была закончена, когда было дано понять, и получено согласие, когда оставалось сыграть последний акт и опустить альковный занавес, когда все задуманное должно было произойти буквально вот-вот, и уже, собственно, происходило, случилось нечто непонятное, будто что-то лопнуло, треснуло, среди романтического сумрака ударил тупой прожектор, и Генрих Матвеевич увидел, клетка пуста, приманка съедена, а добыча ушла. Или, может, (того хуже) не ушла, а таится где-то рядом, посмеивается над незадачливым охотником, чтобы и дальше водить его за нос и лакомиться на дармовщинку. Так или нет? Именно так.
Вполне можно вообразить себя на месте Генриха Матвеевича после злополучного свидания. Тем более он был практик, а для практика нет ничего хуже, чем выжидать и таиться в бездействии. И, тем не менее, Генрих Матвеевич решил именно выжидать, хоть вполне мог оскорбиться и напустить на себя мрачный, байронический вид. Но не оскорбился, не напустил и оказался прав. Ясно, что Генрих Матвеевич был Вале небезразличен. Ведь она решилась на эту поездку с вполне определенной мыслью: а почему бы и нет? Значит, многое для себя представила, заглянула в грядущее, хоть, конечно, не могла предвидеть его в подробностях. Например, что Генрих Матвеевич уже припас для нее свою любимую Диореллу. И пусть сдерживающие мотивы сработали, оказались сильнее, но ведь Валя не была какой-то вертихвосткой, которую Генрих Матвеевич вниманием бы не удостоил. Значит, случай вполне можно было представить, как случайность, досадный сбой, подготовленный – так бывает – отдельными накладками, вроде вызова казенной машины и чтения того же Лермонтова, который в другом случае оказался бы более кстати. Все это похоже на серию подземных толчков, каждый из которых ощутим, но не опасен, и вспоминается потом, как приключение. Досадные нелепости часто присутствуют в начале больших дел и выглядят полной чепухой, когда остаются позади. Легко можно вообразить, что при другом обороте и Валя, и Генрих Матвеевич, отдыхая в интимной обстановке и обсудив под общим углом производственные проблемы, посмеялись бы среди прочего и над машиной, и над Лермонтовым, и даже над воспоминаниями о сырокопченой, которые, сумей их Валя преодолеть, утратили бы силу фетиша и оказались бы именно тем, чем положено, атрибутами старого обряда, утратившими магический смысл. Пыльным экспонатом. Инвентарным номером в архиве памяти. Именно так.
Но преодолеть этот рубеж Валя не смогла. И теперь вспоминала, как нелепо вела себя накануне. И размышляла, как быть впредь. Теперь, когда все утрачено. А тут еще Ананасов проснулся и, глядя в напряженное лицо жены, поинтересовался: – Что с тобой, мамочка?
Больнее нельзя вообразить. Валя едва не взорвалась на дурацкое мамочка. Повернулась к мужу спиной, и дала волю слезам. Немного, но и этого хватило.
Спустя месяц между ними случилось, что должно было случиться в тот злополучный вечер. Теперь пришлось пробираться к сердцу Генриха Матвеевича ледоколом. Он прохладно встретил ее усилия. Зато сама Валя знала точно, чего хочет, и была настроена решительно. Генрих Матвеевич покапризничал и сдался. Она приняла его согласие с благодарностью, как награду, которую еще предстоит оправдать. Это сразу определило лидерство Генриха Матвеевича. Отношения стали выглядеть более значительно, солидно, утратили ненужную игривость, характерную для ъенщин, стремящихся выдать легкомыслие поведения за легкомысленность возраста. Не побоимся сказать, отношения приобрели некоторый государственный масштаб, Генрих Матвеевич откровенно делился с Валей производственными планами, дерзкими начинаниями, которые после грядущей победы над бюрократизмом, после всех согласований и подписей, после освоения и внедрения, определили бы небывалый расцвет их несколько отсталой области товаров группы Б, а самого Генриха Матвеевича вознесли бы на должную высоту. И, постепенно проникаясь величием этих замыслов, Валя испытала незнакомое чувство собственной значимости. Отнюдь, не как любовница – нет, и еще раз нет! Пошло и оскорбительно! Соратница, именно соратница – вот нужное слово, – допущенная в штаб борьбы, для служения важному делу, и, лишь отчасти, для утоления чисто человеческих желаний, на которые они имели право, как всякие живые люди.
Дома у Ананасовых все шло как прежде, дисциплину и организованность Генрих Матвеевич распространил не только на личные отношения, но и на климат (так он это называл) в своей и Валиной семьях. Никто не должен пострадать. Озабоченная собственными страстями, Валя прозевала начало ананасовского романа. Но однажды она достала из почтового ящика письмо. Причем поразило Валю, не сразу (сначала она не обратила внимания), а потом, когда она ознакомилась с содержанием, письмо было без обратного адреса (странно, если бы было наоборот), но и без почтового штампа. Значит, было вброшено неизвестным автором прямо в почтовую щель. Подлость гораздо более расчетлива, чем считают порядочные люди. Ананасов был сейчас в командировке и не мог перехватить анонимку. В той самой злосчастной командировке, из-за которой Виктор Андреевич не уследил за судьбой отчета. Само письмо было, как водится, отпечатано и содержало полезную информацию. Внимание! Ваш муж постыдно сожительствует с подчиненной по работе Еленой Шварц! Привываем принять меры!
Каково? Валя прочла анонимку тут же у ящика и даже выбежала на улицу, чтобы настигнуть отправителя. Но, конечно, никого не настигла. Поднялась в квартиру. В глубокой тоске уселась на кухне. Даже плащ не сняла. Стала глядеть в окно. Осмотрела, как чужие, свои руки, услышала собственное сердце, попыталась что-то сообразить, не сообразила, и громко разрыдалась.
Если бы история ананасовского романа не пришлась на ее собственную измену, не стала ее отражением, как похожи друг на друга все подобные истории, если бы этого не было, Валя бы отнеслась к подобной новости, как и следует отнестись. А именно, как к стихийному бедствию. Ибо, что это такое, как не стихия? Разве последствия ее не катастрофичны, не бедственны для сложившейся годами прочной конструкции? Сейчас не думают о причинах, не стремятся сразу покарать виноватых (время для этого еще придет), не пытаются даже осознать масштабы катастрофы, а безоглядно рвутся спасать, что еще можно спасти, как бросается хозяйка во двор, спасать от ненастья вывешенное для просушки белье. Вот когда буря уляжется и прояснятся масштабы бедствия, тогда можно повздыхать о пережитом, оглядеть руины былого благоденствия, найти слова, чтобы преодолеть боль, и начать жить дальше.
Пока Ананасов был в командировке, Валя привыкала к полученному известию. Она поверила сразу. Сильно засело в ней ощущение собственной вины, чтобы подтвердиться теперь: вот она, расплата. Тревога и растерянность жгли. Как быть? Валя, как всегда за последний год, поделилась с Генрихом Матвеевичем.
Тот повертел анонимку в руках, закурил, красиво пустил дым. Вообще, Генриху Матвеевичу красиво давались жесты. Помолчал, он всегда значительно выдерживал паузу.
– Что собираешься делать?
– Не знаю.
– Ты его ревнуешь?
Валя скорбно кивнула. Именно так. Мысль об измене мужа не отпускала, как больной зуб.
– Понимаю. – Посочувствовал Генрих Матвеевич. – Трудно. Но ничего сейчас делать не нужно. Его ведь за границу готовят. Начнется скандал, все рухнет. И что тогда? Нет, пусть едет. – Генрих Матвеевич помолчал, прислушался к чему-то своему и решительно затянул французский галстук. Будто поставил в конце восклицательный знак, только вниз головой.
Прогулка
– Я предлагаю пройтись. – Сказал Жора Ананасову чудесным весенним утром.
Делать с утра в субботу особенно нечего, а тревога не отпускала, не давала вздохнуть спокойно. Даже не верилось, что было когда-то это спокойно. Хотя вокруг ничего не происходило. Не видать было следов подспудного движения, настораживающих признаков, сгущения атмосферы. Затихли невидимые враги, затаились, выжидая и наблюдая. И сам Ананасов, как индеец на военной тропе, застыл, не шевелясь, и зорко всматривался в окружающих, пытаясь разоблачить. Обжигающие взгляды заставляли ежиться ананасовских сотрудниц, и бежать, на всякий случай, к зеркалу, проверять косметику и одежду. Так Ананасов трудился, наблюдая и прислушиваясь, пытаясь разгадать негодяев под добродетельной личиной, ощущая – все ближе и ближе – таинственность бесплотных перемещений, плетение липкой паутины.
– Неладное что-то творится с Виктором Андреевичем. – Отмечала ананасовский заместитель Людмила Сергеевна – интересная женщина средних лет, почти натуральная блондинка. – А жаль. – И Людмила Сергеевна отправляла за ухо распустившийся локон страсти.
– Куда только его Валентина смотрит. – Поддерживала Клавдия Ивановна, еще один толковый работник. Не отрываясь от цифр, она чутко улавливала сигнал, посланный Людмилой Сергеевной, и отвечала на него ответным сигналом. При этом обе метнули взгляд в сторону Леночки Шварц, предлагая и ей поддержать волнующую тему. Но цели не достигли, Леночка была еще работник молодой, не научилась, делая главное дело, поддерживать разговор. Только задышала неровно на разложенные бумаги.
А Ананасов крутился. Окруженный вниманием коллектива, в смешении запахов парфюмерии и лежалой весенней пыли. Пережил ласковый сквознячок от вскрытого после зимы окна. Отведал первой редиски, взвращенной на собственном огороде Клавдии Ивановны, без всякой химии, как для себя. И хоть посматривал по сторонам настороженно и колко, но еще не очерствел окончательно, не заматерел и готов был улыбнуться, извиняясь за временную озабоченность. Потому выглядел Виктор Андреевич несколько загадочно в легкой хлопчатобумажной куртке с широким поясом стиля блузон, который где-то раздобыла жена и преподнесла, как подарок, для будущей поездки за границу.
– Что с тобой, Витя? – Спрашивала Леночка.
– Со мной? Ничего. – Ананасов изображал удивление.
– Не хочешь говорить… – Сникала Леночка, чувствуя обман фибрами влюбленного сердца.
Не то, чтобы он не хотел, просто что-то мешало. Бездомные, они шли после работы в кино или бродили по укромным улочкам в нижней части города. Хорошо еще, что жена Ананасова ушла с головой в работу и тоже стала задерживаться. А сегодня, в субботу отправилась с утра куда-то, даже особенно не прояснив. Сказала, что к портнихе, но Ананасов знал, портниха в больнице, и Валя, вроде бы, знала, что он знает. Семейная жизнь шла нервно, вразнос. Росло отчуждение и холод, как растет лед в горах, перед тем, как обрушиться с грохотом. Оба чувствовали и страшились, потому ходили и разговаривали с осторожностью, избегая выяснения отношений. И сегодня Ананасов молча снес Валин уход, заявился к Жоре, втянул в ненужное с утра застолье. Хорошо, что Жорина жена – Зира, женщина татарских кровей относилась к Ананасову по доброму.
Друзья, поднявшись из-за стола, отправились в путь. Прямо за домом начинался заброшенный лесопарк, тянулся вдоль железной дороги. Тропинка была влажной после ночного дождя и отпускала туфли с причмокивающим звуком сожаления. Место было сырое, болотистое, неуютное, предназначенное для разговоров досадных и неприятных.
– Подумай, что делать с Соткиным. – Рассуждал Жора. – Он пока единственный, кто нам известен. С иностранцами шляется. И интересуемся им не только мы.
– Потому делать ничего не нужно. – На правах пострадавшего за Ананасовым было последнее слово. – Мне скоро ехать. Сейчас главное, дотянуть. А к приезду все забудется. Или сам пойду, повинюсь.
– Но кто-то тебе сильно хочет нагадить. – Рассуждал Жора. – И, пока ты будешь отмалчиваться, сила на их стороне. Поговори с Леночкой. У женщин особый взгляд, ты внимания не обратишь, а они заметят.
Жора по камням перескочил через ручей и оказался на большой поляне, густо поросшей травой с островками мяты, щавеля и обилием желтых цветков одуванчика, что делало поляну похожей на посыпанный зеленью омлет. Здесь на солнечной стороне было сухо, сумеречный холодок исчез. За поляной, утопая в молочно-розовом цвете яблонь, тянулись ветхие строения, брошенные домики под ржавыми кровлями, рассыпающиеся сарайчики, сбитая на бок голубятня. Все это виделось сквозь плетение изгороди из проволоки, досок, камней, даже спинок кроватей, крепко прикрученных к стволам деревьев. Только защищать и прятать здесь было нечего. И не от кого. Вокруг ни души. Одичалая собака пробежала, сторожко глянула на друзей и исчезла. И более ничего живого не было заметно в застывшем, оцепенелом каком-то пейзаже. Ничейная земля. Человек уже отступил, а городская, чуткая природа еще только заползала зелеными щупальцами, пробиралась в затоптанные дворы, играла с ободранным железом на крышах, осыпала штукатурку с мазаных стен, обнажая деревянные крестики дранки и бугристые бревна.
Беседуя, друзья неспешно вышли к сонному озеру, обтянутому, как огромная лохань, бетонным скосом. По берегу тянулся променад, достаточно людный в этот погожий день. Густая пленка зелени была небрежно наброшена на сонную воду, а поверх, как игрушки на ковре, щедро разбросаны обломки дерева, доски, всякая строительная чепуха, даже металлическая бочка торчала боком в бахроме слизи. Противоположный берег был частично травянистый, так сказать, натуральный, над зеркальцем чистой воды стыла одинокая фигура рыболова, неподвижная и даже какая-то неодушевленная, будто затейник декоратор подсадил сюда не человека, а муляж, и так завершил композицию.
Когда-то в этих местах хозяйничали монахи. Пруд этот, как и другие, затерянные в глубинах парка, наполнялся целебной, родниковой водой, сулящей крепкое здоровье, богатого жениха и защиту от сглаза. Впрочем, и сейчас родничок пробивался. Старушки собирали драгоценную воду в банки, затягивали пластмассовыми крышками и трогались потихоньку в путь, в неблизкую церковь. Там воду святили, чтобы крепче могла совершать чудеса. И друзья попробовали отстоявшейся с болотистым душком водицы. И отправились в цивилизованную часть парка, которая была обозначена издали громадным колесом обзора, неуклюжей шестеренкой, врезанной в земную твердь. Пульсирующими толчками ползли в белесое небо кабинки, вознося все выше досужую публику в полет над зеленым массивом и ползущим сквозь него поездом детской железной дороги. А внутри, среди дорожек, крытых каменной пудрой – младенческой присыпкой паркового классицизма, среди стриженого барашком кустарника, блестящих свежей зеленью скамеек, среди бочек с квасом и пивом, среди всех больших и малых примет народного гулянья, вскипал субботний ералаш. С детским визгом и треском игральных автоматов, с шумом, хохотом, терпеливой очередью за шашлыками, с изготовлением бумажных силуэтов, с полуподпольной продажей бижутерии и гипсовых Венер, с военным патрулем, с пыхтящими бегунами, крикливыми массовиками, с доминошниками, бильярдистами, читателями газет и журналов, честными тружениками, ветеранами, искателями амурных приключений, дозревающими подростками, миллионами алых роз, сыплющихся из всех динамиков, и одиноким, пугливым как лань, эксгибиционистом, фигуру которого, укрытую в буйном неистовстве весны, обнаружить было труднее, чем полицейского инспектора Вернике на загадочной немецкой картинке.