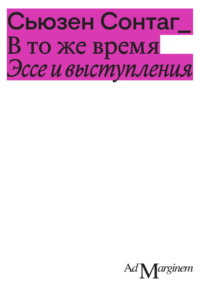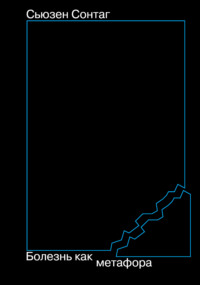Полная версия
Образцы безоглядной воли

Сьюзен Сонтаг
Образцы безоглядной воли
Susan Sontag
Styles of Radical Will
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»

Издательство благодарит The Wylie Agency за помощь в приобретении прав на данное издание
Перевод Бориса Дубина, Наталии Кротовской, Валентины Кулагиной-Ярцевой под общей редакцией Марка Дадяна
Copyright © 1966, 1967, 1968, 1969, Susan Sontag
All rights reserved
© Дубин Б. В., перевод, наследники, 2018
© Кротовская Н., перевод, 2018
© Кулагина-Ярцева В., перевод, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2018
* * *Эстетика безмолвия
1Каждая эпоха заново изобретает свой проект «духовности». (Духовность = планы, терминология, представления о поведении, направленном на разрешение болезненных структурных противоречий, присущих человеческой участи, на совершенствование человеческого сознания, преодоление границ.)
В современную эпоху одной из самых действенных метафор духовного проекта выступает «искусство». Деятельность художника, музыканта, поэта и танцора – коль скоро их всех объединяют под этим родовым названием (относительно недавняя практика) – оказалась весьма подходящей площадкой для постановки драмы, затрагивающей сознание; при этом каждое отдельное произведение искусства представляет собой более или менее удачную парадигму упорядочивания или примирения этих противоречий. Разумеется, эта площадка нуждается в постоянном обновлении. Независимо от поставленной цели, искусство в конце концов начинает препятствовать достижению гораздо более широких целей сознания, противостоять им. Искусство, как одна из форм мистификации, время от времени переживает кризисы демистификации: прежние художественные цели подвергаются яростной критике и показательно заменяются другими, истрепанные атласы сознания чертят заново. Однако энергию всем этим кризисам – так сказать, совокупную энергию, – придает как раз объединение разнообразной и абсолютно разрозненной деятельности в один род. Современная эпоха в искусстве начинается с появления «искусства». Отныне любая деятельность, включенная в эту сферу, становится глубоко проблематичной, так как все ее процедуры и в конечном счете само право на существование могут быть поставлены под вопрос.
Превращение разных видов искусства в «искусство» ведет к появлению главного мифа об искусстве – мифа о безусловности художественной деятельности. В своей первой, наименее рефлексивной версии, миф рассматривает искусство как выражение человеческого сознания, стремящегося к самопознанию. (Оценочные стандарты, порожденные этой версией мифа, довольно легко установить: некоторые выражения полнее, благороднее, богаче остальных.) Последующая версия мифа устанавливает более сложное, трагическое отношение искусства к сознанию. Не сводя искусство к простому выражению, более поздний миф, скорее, связывает искусство с потребностью или способностью разума к самоотчуждению. Искусство более не понимается как сознание, которое выражает и, следовательно, неявно утверждает себя. Искусство – не есть сознание per se[1], а скорее противоядие, выработанное самим сознанием. (Предложить оценочные критерии, порожденные этой версией мифа, оказалось гораздо сложнее.)
Новейший миф, выведенный из постпсихологической концепции сознания, устанавливает внутри художественной деятельности множество парадоксов, связанных с достижением абсолютного состояния, описанного великими религиозными мистиками. Подобно тому как деятельность мистика должна завершиться via negativa[2], теологией отсутствия Бога, стремлением к непостижимости за пределами знания и к тишине за пределами речи, так и искусство должно стремиться к антиискусству, уничтожению «предмета» («объекта», «образа»), замене реального события замыслом и достижению безмолвия.
В ранней, линейной версии отношения искусства к сознанию наблюдалась борьба между «духовной» чистотой творческих импульсов и отвлекающей внимание «материальностью» обыденной жизни, воздвигающей множество препятствий на пути подлинного очищения. Однако следующая версия, согласно которой искусство представляет собой часть диалектического взаимодействия с сознанием, имеет дело с более глубоким, в большей степени обескураживающим конфликтом. «Дух», ищущий воплощения в искусстве, сталкивается с «материальным» характером самого искусства. С искусства срывается маска свободы, и сама конкретность художественных средств (их историчность, особенно в случае языка) представляется ловушкой. Художественная деятельность в мире подержанных представлений, в мире, сбитом с толку вероломством слов, обречена на опосредованность. Искусство становится врагом художника, так как препятствует реализации – трансцендентности, – к которой тот стремится.
Таким образом, искусство начинают рассматривать как нечто требующее ниспровержения. В произведении искусства появляется новый элемент, который становится определяющим: призыв (молчаливый или открытый) к самоуничтожению – и в конечном счете к уничтожению самого искусства.
2Сцена превращается в пустую комнату.
Рембо отправляется в Абиссинию, стремясь разбогатеть на торговле людьми. Витгенштейн, проработав учителем в сельской школе, выбирает черновую работу санитара. Дюшан обращается к шахматам. Каждый из них не только показательно отрекся от своего призвания, но и объявил свои прежние достижения в поэзии, философии или живописи пустяками, не заслуживающими внимания.
Однако выбор непрерывного безмолвия не отрицает их работ. Напротив, безмолвие с обратной силой наделяет то, что было прервано, дополнительным влиянием и авторитетом – отрицание творчества становится новым источником его состоятельности, свидетельством неоспоримой значимости. Эта значимость состоит не в том, чтобы рассматривать искусство (или философию в форме искусства: Витгенштейн) как нечто навеки значимое, некий «конец», перманентное средство реализации духовных амбиций. Подлинно серьезная позиция – рассматривать искусство как «средство» приближения к тому, что может быть достигнуто только путем отказа от искусства; короче говоря, искусство – это ложный путь, или (словами дадаиста Жака Ваше) глупость.
Утратив исповедальность, искусство более чем когда-либо становится средством спасения, упражнением в аскезе. С его помощью художник может очиститься сам и в конечном счете очистить свое искусство. Художник (если не само искусство) по-прежнему поглощен стремлением к «благу». Но если прежде оно заключалось в мастерстве и достижениях, то ныне высшее благо для художника – достичь той точки, в которой цель совершенства становится для него несущественной, эмоционально и этически, и обретению своего голоса в искусстве он предпочитает безмолвие. Безмолвие в этом смысле – как исход – подразумевает настроение окончательности, прямо противоположное настроению, сообщающему о сознательном, традиционно серьезном использовании безмолвия (прекрасно описанном Валери и Рильке) – безмолвия как пространства медитации, подготовки к духовному созреванию, как испытания, дающего право говорить.
Художник, коль скоро он серьезен, постоянно подвергается искушению прервать диалог с публикой. Безмолвие – крайняя точка этого нежелания общаться, двойственного отношения к контакту с публикой, представляющего собой главный мотив современного искусства, с его неизменной приверженностью «новому» и – или – «эзотерическому». Безмолвие – последний потусторонний жест художника: посредством безмолвия он освобождается от рабской связи с миром, который выступает как патрон, клиент, потребитель, антагонист и арбитр, искажающий его произведения.
И все же в этом стремлении отвергнуть «общество» нельзя не усмотреть в высшей степени общественного жеста. Сигнал окончательного освобождения от необходимости профессиональной практики художник получает, наблюдая за своими коллегами-художниками и сравнивая себя с ними. Как правило, решение такого рода может быть принято лишь после того, как художник доказал свою несомненную одаренность. Поскольку он превзошел своих собратьев, следуя стандартам, которые он признает, его гордости остается одно. Ибо оказаться жертвой пристрастия к безмолвию – значит в некотором смысле оказаться выше всех остальных. Это предполагает, что художник сумел задать вопросов больше, чем другие, что у него крепче нервы и выше критерии совершенства. (То, что художник способен упорно допрашивать свое искусство, пока кто-нибудь из них двоих не истощится, не требует доказательств. Как сказал Рене Шар, «ни у одной птицы не хватит духу петь в чаще вопросов».)
3Как правило, современный художник, выбирающий безмолвие, редко доходит до предельного упрощения, умолкая в буквальном смысле слова. Обычно он продолжает говорить, но так, что его аудитория не может его услышать. В наше время искусство, получающее наибольшее признание, воспринимается аудиторией как шаг к безмолвию (к непонятному, невидимому или неслышимому); как разрушение компетенции художника, как размывание чувства профессионального долга – и, следовательно, как направленная на публику агрессия.
Привычка современного искусства постоянно раздражать, провоцировать или приводить в смятение публику может рассматриваться как ограниченное, косвенное участие в идеале безмолвия, ставшего главным стандартом «значимости» в современной эстетике.
Однако подобная форма участия в идеале безмолвия противоречива. Не только потому, что художник продолжает создавать произведения искусства, но и потому, что изоляция произведения от публики не длится вечно. По прошествии времени с появлением новых, более сложных произведений, прегрешение художника становится простительным и в конечном счете допустимым. Гёте обвинял Клейста в том, что тот пишет для «невидимого театра». Однако постепенно невидимый театр стал «видимым». Уродливое, неблагозвучное и бессмысленное стало «прекрасным». История искусства есть последовательность успешных прегрешений.
Характерная цель современного искусства – неприемлемость для публики – в свою очередь утверждает для художника неприемлемость самого присутствия публики – публики в современном смысле слова, то есть совокупности зрителей-соглядатаев. Во всяком случае, с тех пор как Ницше в «Рождении трагедии» заметил, что зрители в нашем представлении – то есть присутствующие, которых игнорируют актеры, – не были известны грекам, современное искусство демонстрирует желание исключить зрителей из искусства; эта инициатива нередко выдается за попытку совершенно уничтожить «искусство». (Ради «жизни»?)
Приверженность идее, согласно которой сила искусства кроется в его способности отрицать, приводит к тому, что последним орудием художника в противоречивой войне с публикой становится все большее тяготение к безмолвию. Чувственный или концептуальный разрыв между художником и публикой, пространство отсутствующего или прерванного диалога также может составлять основу для аскетического утверждения. Беккет мечтает «об искусстве, возмущенном своей непреодолимой нищетой и слишком гордым для фарса дарения и получения». Но это не отменяет минимального взаимодействия, минимального обмена дарами – как не существует талантливого и строгого аскетизма, который, независимо от своих намерений, не увеличивал бы (а не уменьшал) способность к получению удовольствия.
Ни одно из проявлений агрессии, осуществленной современными художниками намеренно или без умысла, не привело к уничтожению публики, не превратило ее в нечто иное, в сообщество, занятое повседневными делами. У них ничего не получается. Пока искусство будет пониматься и оцениваться как «абсолютная» деятельность, оно останется обособленным и элитарным. Наличие элиты предполагает существование масс. Поскольку лучшее искусство по существу определяет себя через «жреческие» цели, оно предполагает и подтверждает существование относительно пассивных, до конца непосвященных мирян-соглядатаев, которых то и дело призывают смотреть, слушать, читать или внимать, – а затем отсылают прочь.
Художник может только видоизменять условия этой ситуации – в отношении публики и себя самого. Обсуждать идею безмолвия в искусстве значит обсуждать различные альтернативы в рамках неизменной по существу ситуации.
4Каким образом безмолвие в буквальном смысле присутствует в искусстве?
Безмолвие существует как решение: в показательном самоубийстве художника (Клейст, Лотреамон), который тем самым свидетельствует, что зашел «слишком далеко»; в отказе от своего призвания, о чем говорилось выше.
Молчание существует также как наказание: наказание самого себя, в образцовом безумии художника (Гёльдерлин, Арто), который показывает, что ценой за нарушение установленных границ сознания может стать душевное здоровье; и, конечно, наказания, установленные «обществом» в случае неподчинения художника или оскорбления «общественных чувств» (от цензуры и физического уничтожения произведений искусства до штрафов, ссылки и тюрьмы).
Безмолвие в буквальном смысле не существует как переживание, которое испытывает публика. Это означало бы, что зритель либо знает об отсутствии стимула, либо не способен на него отреагировать. Но такое невозможно, даже если побудить его к этому намеренно. Отсутствие знания о стимуле или неспособность к ответной реакции возможны только по причине псевдоприсутствия со стороны зрителя или непонимания собственных реакций (если он сбит с толку ограничительными представлениями о том, какой должна быть «релевантная» реакция). Пока публика по определению состоит из разумных существ, находящихся в определенной «ситуации», она не может на таковую ситуацию не реагировать.
Безмолвие в буквальном смысле также не может существовать как свойство произведения искусства – даже такие работы, как реди-мейды Дюшана или «4’33”» Кейджа, в которых художник нарочито ничего не делает для того, чтобы соответствовать установленным критериям искусства, а просто помещает предмет в галерею или проводит перформанс на концертной сцене. Не существует нейтральной поверхности, нейтрального дискурса, нейтральной темы или нейтральной формы. Что-то нейтрально только по отношению к чему-то еще – как интенция или ожидание. Безмолвие как свойство произведения искусства может существовать только в придуманном или небуквальном смысле. (Иными словами, если произведение искусства существует, его безмолвие – всего лишь один из его элементов.) Вместо «сырой» или организованной тишины мы обнаруживаем некоторые движения по направлению к постоянно отступающему горизонту безмолвия – который по определению недостижим. В итоге возникает тот вид искусства, который многие уничижительно называют немым, депрессивным, уступчивым, холодным. Однако эти отрицательные качества существуют в контексте объективного намерения художника, которое всегда заметно. Культивирование метафорического безмолвия, вызванное традиционно безжизненными предметами (как в большинстве произведений поп-арта), и построение «минималистских» форм, которым явно не хватает эмоционального отклика, само по себе есть решительный и часто стимулирующий выбор.
И наконец, даже не приписывая произведению искусства объективных значений, мы оказываемся перед лицом неизбежной истины, касающейся восприятия: позитивности любого переживания в каждый его момент. Как настаивал Кейдж, «нет никакой тишины. Что-то всегда происходит и рождает звук». (Кейдж говорил, что даже в звуконепроницаемой комнате он все равно слышит две вещи: биение сердца и пульсацию крови в висках.) Точно так же нет и пустого пространства. Смотрящий человеческий глаз всегда что-то видит. Смотреть на «пустоту» – значит все-таки смотреть на что-то, что-то видеть, хотя бы призрак своих ожиданий. Чтобы ощутить полноту, необходимо сохранять острое чувство пустоты, позволяющее отличить одно от другого; и наоборот, чтобы ощутить пустоту, нужно осознать полноту других зон. (В «Алисе в Зазеркалье» Алиса оказывается в лавке, которая «была битком набита всякими диковинками, но вот что странно: стоило Алисе подойти к какой-нибудь полке и посмотреть на нее повнимательней, как она тотчас же пустела, хотя соседние полки прямо ломились от всякого товара»[3].)
«Безмолвие» всегда подразумевает свою противоположность и зависит от ее присутствия: так же как «верха» нет без «низа», а «левого» без «правого», чтобы распознать безмолвие, следует признать окружающую его среду – звук или язык. Безмолвие существует не только в мире, наполненном речью и другими звуками, любое данное безмолвие имеет свое тождество в виде отрезка времени, пронизанного звуком. (Так, великолепная немота Харпо Маркса[4] проистекает из того, что он окружен маниакально говорящими людьми.)
Подлинная пустота, полное безмолвие неосуществимы – ни фактически, ни концептуально. Только из-за того что произведение искусства существует в мире, наполненном множеством других вещей, художник, создающий безмолвие или пустоту, неизбежно производит нечто диалектическое: полный вакуум; пустоту, которая обогащает; резонирующее или красноречивое молчание. Безмолвие неизбежно остается формой речи (нередко формой жалобы или обвинения) и частью диалога.
5Программы коренного сокращения средств и воздействия искусства, включая предельное требование отказа от самого искусства, не следует понимать буквально, недиалектически. Безмолвие и связанные с ним идеи (например, пустота, редукция, «нулевой уровень») – это пограничные понятия с чрезвычайно сложным набором целей, главные элементы особой духовной и культурной риторики. Разумеется, описывать безмолвие как риторический термин не значит обвинять риторику в обмане или недобросовестности. По моему мнению, мифы безмолвия и пустоты почти столь же питательны и жизнеспособны, как и мифы, созданные в «нездоровое» время – то есть тогда, когда «нездоровые» психические состояния питали энергией создание большинства выдающихся произведений искусства. И все же пафос этих мифов бесспорен.
Этот пафос в том, что идея безмолвия допускает, в сущности, всего два типа плодотворного развития. Либо она доводится до крайней точки самоотрицания (как искусство), либо осуществляется в героически и виртуозно неустойчивой форме.
6Искусство нашего времени громко взывает к безмолвию.
Игривый, даже радостный нигилизм. Художник признает императив безмолвия, однако продолжает говорить. Обнаружив, что ему нечего сказать, он ищет способ рассказать об этом.
Беккет полагал, что искусству следует отвергнуть все намеченные проекты, затрагивающие вопросы из «области возможного», что ему следует отступить, «устав от бесплодных попыток, устав притворяться, что оно способно слегка улучшить то, что было, пройти немного вперед по унылой дороге». Альтернативой служит «искусство, выражающее то, что выражать ему нечего и незачем, что у него нет ни сил, ни желания что-то выражать наряду с обязанностью выражать». Откуда возникает эта обязанность? Сама эстетика стремления к смерти превращает это стремление в нечто непоправимо живое.
Аполлинер говорит: «J’ai fait des gestes blancs parmi les solitudes»[5]. Однако он эти жесты делал.
Поскольку художник не может, оставаясь художником, избрать безмолвие в буквальном смысле, риторика безмолвия предписывает ему решимость осуществлять свою деятельность еще более кружным путем. Один из таких путей указан в предложенном Бретоном понятии «заполненных полей». Художник должен посвятить себя тому, чтобы заполнить периферию пространства, занимаемого искусством, оставив середину пустой. Искусство становится привативным, анемичным, как следует из названия единственного фильма Дюшана «Анемичное кино», снятого в 1924–1926 годы. Беккет выдвигает идею «оскудевшей живописи» – «подлинно бесплодной, неспособной создать ни одного образа». Манифест Ежи Гротовского для его Театра-лаборатории в Польше назывался «К бедному театру». Эти программы по оскудению искусства следует воспринимать не просто как террористическое предупреждение, обращенное к публике, но как стратегию по совершенствованию ее опыта. Понятия безмолвия, пустоты и редукции предлагают новые рецепты прослушивания, просмотра и т. п., стимулирующие либо более непосредственный чувственный опыт восприятия, либо способность отнестись к произведению искусства более сознательным, концептуальным образом.
7Рассмотрим связь между требованием редуцировать средства и эффект искусства, тяготеющего к безмолвию, и способностью к вниманию. В одном из аспектов искусство – это техника сосредоточенности, обучения навыку внимания. (Хотя таким образом можно описать любую человеческую среду – как педагогический инструмент, – это описание тем c большим успехом применимо к произведениям искусства.) История искусства есть не что иное, как обнаружение и описание набора объектов, на которые следует обратить внимание. Можно с точностью и упорядоченностью показать, каким образом «глаз искусства» выхватывал из нашего окружения и «называл» некоторые вещи, в которых люди впоследствии признавали важные и сложные сущности, доставляющие удовольствие. (Оскар Уайльд указал на то, что люди не замечали тумана, пока их этому не научили поэты и художники ХIX века; и, разумеется, только в эру кинематографа могла возникнуть особая тонкость восприятия человеческих лиц во всем их многообразии.)
Прежде задача художника, по-видимому, состояла просто в привлечении внимания к новым областям и предметам. Эта задача не исчезла, но стала проблематичной. Сама способность к вниманию ставится под вопрос и подвергается более строгим требованиям. Как говорит Джаспер Джонс, «видеть что-то ясно – уже большое дело, так как мы ничего не видим ясно».
Вероятно, чем меньше предлагается вниманию, тем лучше его качество (оно менее искажено, менее рассеянно). Художник, очищенный безмолвием, вооруженный оскудевшим искусством, сможет приступить к преодолению удручающей избирательности внимания, неизбежно связанной с искажением опыта. В идеале он должен быть способен сосредоточиться на чем угодно.
Налицо постоянное стремление к меньшему. Но «меньшее» никогда не продвигается вперед так наглядно, как «большее».
В свете современного мифа, в котором искусство стремится стать «тотальным опытом», требующим тотального внимания, стратегия обеднения и редукции указывает на самую возвышенную амбицию, какую только может иметь искусство. Под маской безграничной скромности, едва ли не деградации, скрывается дерзкое мирское богохульство: стремление достичь ничем не стесненного, неизбирательного, тотального, «божественного» сознания.
8Язык представляется наиболее подходящей метафорой для выражения промежуточного характера произведений искусства и занятия искусством. С одной стороны, речь – это нематериальное средство (сопоставимое, скажем, с образами) и в то же время разновидность человеческой деятельности, с явной ставкой на трансцендентность, на выход за пределы единичного и случайного (все слова, будучи обобщениями, лишь приблизительно основаны на частностях или ссылаются на них). С другой стороны, язык – это самый грязный, самый зараженный, самый истощенный из всех материалов, из которых сделано искусство.
Двоякий характер языка, его отвлеченность и его «выпадение» в историю, представляют собой как бы микрокосм злосчастного современного искусства. Искусство так далеко зашло в лабиринт трансцендентности, что художник вряд ли обратится вспять, если только не по причине некоей сокрушающей, карательной «культурной революции». Но в то же время искусство терпит бедствие в бурных водах секулярного исторического сознания, которое некогда казалось высшим достижением европейской мысли. Немногим более чем за два века историческое сознание превратилось из духа освобождения, из символа открытых дверей, из благословенного просвещения в ношу самосознания, почти неподъемную. Для художника едва ли возможно написать хоть одно слово (создать образ или сделать жест), которые не напомнили бы ему о чем-то уже достигнутом.
Вспомним Ницше: «Наше преимущество: мы живем в век сопоставлений, мы можем проверять и сличать так и столько, сколько и как никогда еще не проверяли и не сличали; мы есть самосознание истории вообще… Мы наслаждаемся иначе, мы страдаем иначе: сопоставление всего неимоверно разнообразного есть наинасущнейшая деятельность наших инстинктов…»[6]
По существу, общность и историчность средств выражения художника обусловлены самим фактом интерсубъектности: каждый человек – это «бытие-в-мире». Но сегодня, особенно в искусствах, пользующихся языком, это обычное положение дел воспринимается как необычная, изнурительная проблема.
Язык воспринимается не только как нечто общее, но и как нечто искаженное, придавленное грузом исторической аккумуляции. Таким образом, для каждого сознательного художника создание произведения искусства означает работу с двумя потенциально антагонистическими областями смысла и отношениями между ними. Одна – это его собственный смысл (или его отсутствие), другая – набор второстепенных смыслов, которые расширяют его собственный язык и в то же время усложняют, компрометируют и фальсифицируют его. В итоге художник, выбирая между двумя изначально ограниченными возможностями, вынужден занять либо раболепную, либо высокомерную позицию. Либо он старается польстить и угодить публике, предлагая то, что ей уже знакомо, либо ведет себя агрессивно, навязывая публике то, чего она не хочет.