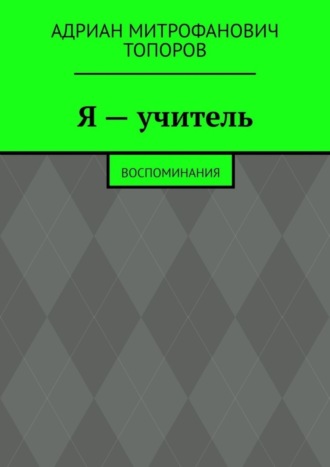
Полная версия
Я – учитель. Воспоминания
– Прорва ненаедная, опять мамон хлебом забил! Когда твою ятребу разорвет? Бесперечь лопаете, хлеба на вас не напасешься, аредовы души! Тьфу, пропасти на вас нету!
Если отец зимой, кашляя, шёл из своей каморки через сени в общую хату, все здесь затихало. Ребятишки – мигом на печь. Бабы бросали разговоры и усерднее пряли, чесали куделю, гремели рогачами и шили.
Не знаю, где и как отец научился грамоте, но он умел немного читать и писать. Одно время, я слышал, «ходил» сельским писарем. На моей памяти в этой должности уже не состоял, но держал в своей каморке перо и пузырёк с рыжими чернилами. Солдаткам писал письма для мужей, старухам записывал в поминание родителей «за здравие» и «за упокой». Изредка сочинял мужикам прошения в волостной суд. Уменье отца было большой редкостью в Стойле. Как особую драгоценность он берёг в своем сундучке, оклеенном изнутри красной бумагой, какой-то давнишний список крестьян. Позже, став грамотным, я понял, чем он дорог отцу: список исполнен был изумительным почерком. Рукопись представляла для отца учебник каллиграфии. В заветном сундучке нашёл я и отцовы упражнения – подражание безвестному художнику чистописания. Значит, и отцу не чужды были порывы к красоте. Десятки раз выводил тяжёлой рукой:
Или:
Последние буквы украшались причудливыми завитушками – росчерками. Я тайно завидовал искусству великолепного каллиграфа и загорелся желанием писать так же красиво, как он.
Ещё в сундучке отца лежали Библия с деревянной крышкой, обтянутой кожей, псалтырь, часослов, молитвенник и несколько зелёных книжек – «Жития святых». Светскую литературу он не любил, считал баловством для пустых людей.
Все бразды правления в нашем хозяйстве отец держал в своих руках. Внешние дипломатические сношения с землевладельцами вёл тоже он: заключал договоры, платил деньги, возил подарки – молоко, кур, яйца, сало, – уговаривал, приглашал в гости.
Когда отцу дышалось легче, он ни на минуту не оставался без дела. Сидя на земле под навесом, что-нибудь мастерил: строгал клевцы для грабель, вытесывал новые вилы, чинил бороны, сохи, точил пилы, отбивал косы. Но, странное дело, эта его жадность к труду нам, ребятам, не передавалась. Мы норовили улизнуть на реку, бултыхались в воде, визжали, брызгались, а отец выходил за нижние ворота и кричал на весь Монастырь:
– Трошка! Андрияшка! Ванькя! Ступайте сей минутой домой! Запорю аредов!..
С кислыми физиономиями мы тянулись под навес. Отец всем давал дело: одному – ошкуривать липовые суки, другому – вить путы лошадям, третьему – крутить свясла на вязку снопов. Почему-то в работах этих не было для нас ничего увлекательного. Я скорее почувствовал, чем понял: такой труд – беспросветная каторга, которая делала безрадостной и саму жизнь. Принуждение и однообразие убивали в нас всякое желание трудиться. Хотелось бежать от такой жизни куда глаза глядят.
По болезни отец лишь раз в год ездил в Бродчанскую церковь – исповедоваться и причащаться. Зато каждый праздник аккуратно правил дома богослужебный чин. Едва за пять вёрст донесётся до Стойла звон большого колокола, возвещавшего пение «Достойно», как отец появлялся в общей избе:
– Становись!
Все становятся у него за спиной.
– Во имя отца и сына и святаго духа, – начинает он громко, внятно и проникновенно.
Бабка вздыхает, повторяет за ним слова молитвы, а дети машинально крестятся и кланяются вслед за взрослыми.
Отец тяжело опускается на колени, опираясь левой рукой о стол.
– Ну! – бросает он грозно ребятишкам.
И мы падаем на колени. Ноют коленки и спины. Некоторые не выдерживают и оседают на пятки. Но отец, зная эту нашу завычку, внезапно повертывает голову назад и, прервав молитву, рявкает:
– С пяток слезь!
Моление продолжается. Долго. Отец много раз поднимается с пола, снова преклоняет колени и читает, читает, читает молитвы. Сколько же он их знает! Когда им конец? Уже догорают тоненькие свечки, еле мерцает за тусклым стеклышком осевший язычок лампадки, а мы всё крестимся и кланяемся до изнеможения. Наконец, с колокольни раздается веселый трезвон: обедня кончилась! Отец произносит последние, радующие нас слова:
– …И тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу всегда, ныне и присно и во веки веков аминь!
Поворачивается лицом к нам и чинно кланяется прямо, направо и налево.
Но испытание ребячьего терпения еще не окончено. Ужасно хочется есть! А обеда не будет до тех пор, пока люди не придут из церкви. Ходят же с богомолья не спеша, дорогой разговаривают о всякой всячине. Жди, пока они пять вёрст прошагают. А отец времени зря не теряет. Берёт славянское Евангелие, садится на лавку, прилаживается поближе к окну и, отдалив книгу от глаз, начинает читать. Из чтений этих я почти ничего не понимал, но механически запомнил одну фразу, забавлявшую меня обилием бубнящих звуков: «В начале бе слово и слово бе к богу и бог бе слово…»
Играя на улице, я повторял этот набор слов, казавшийся смешным. Но сказки из священной истории мне нравились. Например, как Иаков видел во сне лестницу высотой до небес, как братья продали Иосифа в Египет, как богатырь Самсон уничтожил своих врагов, как Иуда продал Христа за тридцать сребреников, и прочее. Когда я слышал это, загоралось мое воображение, кипели чувства гнева, восторга, печали, протеста против коварства, зла, неправды. Хотелось творить героические дела, уничтожить все зло на свете.
Отец был, как я понимаю теперь, начетчик, но чтения его, как и песни дяди и брата, оказались первыми семенами, из которых выросла моя любовь к созданиям фантазии поэтов всех стран и народов.
«Проба пера и чернил… Крестьянин села Сокового Стойла тож Митрофан Тихонович Топоров…»
«Его Высокоблагородию Господину Земскому Начальнику…»
2
Раба безответная – так можно назвать мою мать. Родилась и выросла она в любви и ласке, а замуж вышла за человека крутого нрава.
Я не помню, чтобы отец когда-нибудь говорил с ней уважительно. Слабая, запуганная, с всегдашним выражением страха в глазах, она безропотно выполняла всякую непосильную работу: поднимала с полу на лавку тяжёлую дежу с заведенными хлебами, кулачила упругое тесто, лепила из него увесистые коровеги и на лопате совала в печь по двенадцать-пятнадцать штук зараз; одна выносила на двор гадкую лохань; цепом молотила наравне с мужиками; подавала грузные снопы на высокие одонья. Все это она делала даже и тогда, когда была на сносях. И не просила ни отдыха, ни пощады.
Рассказывали, что в страду она не раз рожала в поле под телегой. Повивали бабы-соседки. Но никто не слышал её жалоб на несчастную долю. Только по ночам она тайно плакала, тихо всхлипывая и сморкаясь в фартук. Я слышал это несколько раз. Но наутро мать снова работала, не показывая своего горя.
Родила она семь детей. Всех любила, жалела. Преждевременные морщинки густо покрыли её лицо, но хворала мать редко. И в счастливые минуты, когда уезжал отец, когда она освобождалась от чувства страха, в глазах её искрился тёплый свет. В худеньком, хилом теле жила непоказная сила. Смерть матери доказала это. В Стойле вспыхнула холера, все боялись ходить за больными, обмывать покойников, а мать пошла на этот подвиг. Конечно, заразилась и умерла.
Она была неграмотной, но тонко чувствовала поэзию природы. Возвращаясь с полевых работ, приносила пучки душистых трав и цветов, вешала их по стенам пуньки, где мы спали, подкладывала под наши подушки. Как ни уставала мать, а летней ночью не сразу ложилась спать. Садилась на порог, подолгу молча смотрела на звёздное небо.
– Вон, вишь, сынок, белесую полосу? – указывала мне на млечный путь. – Это – дорога в рай. После смерти все праведники пойдут по ней. А вон там, выше… Гляди-ка: звездочка падает… На кого она упадет, тот сей минутою и помрёт. И ангелы унесут его душу в рай. Счастливый тот человек.
Перед сном молилась мать не в доме, а на дворе. Устремив глаза на звезды, крестилась, шептала молитвы. И нас, уложив на кровать, открещивала с четырех сторон, приговаривая: «Крест – креститель, крест – сохранитель, сохрани, помилуй по всякую ночь, по всяк час…»
К восьми годам меня научили стеречь овец и телят, ездить верхом на лошадях, обратывать и путать их. Все хозяйственные вопросы отец решал единолично, ничьих советов не принимал. И обо мне объявил вдруг свое решение:
– Андрияшку отдаю в работники дяде Фатею. Федорка, веди его в Липяги ноне же!
Это отец хотел избавиться от лишнего рта в семье. Мать надела красную ситцевую юбку, повязалась белым платком с мушками, взяла какой-то узелок, и мы с нею отправились в Липяги. Перейдя речку, мать радостно сказала мне:
– Ну, слава богу! Ты, сынок, не бойся. У дяди Фатея тебе будет лучше, чем дома. Он добрый. И тетка Иваниха тоже хорошая. Они не обидят. А я буду к тебе наведываться каждый праздник. Ничего! У них еда сытная. Они чай пьют с сахаром. У них и самовар свой…
Я ликовал, идя в батраки. Дядю Фатея я знал хорошо. Не раз бывал у него в гостях. Он меня любил. Маленького тетёшкал, давал конфеты и пряники. Он же приложил ко мне ласковое имя: «Андреёк». Даже пьяный, дядя Фатей был лучше всех людей на свете: никого не обижал, ни с кем не дрался, а только лез ко всем обниматься и целоваться. И при этом беспрерывно спрашивал: «Ты знаешь, какой я есть, а? Знаешь ты Фаддея Васильевича Бурцева али нет? Скажи: знаешь? Нет, ты не знаешь Фаддея Васильевича Бурцева!»
Не шёл, а летел я на крыльях к дяде Фатею. Разлука с родным селом ничуть не тревожила меня.
Встретила нас тетка Иваниха, грузная женщина, страдавшая водянкой. На верхнем веке её правого глаза сидела крупная и красная, как клюква, родинка, придававшая тетке свирепое выражение. А лицо у неё было доброе, приятное.
– А-а-а, Андреёк пришел! – воскликнула она и поцеловала меня в макушку.
Беседуя с матерью о том о сём, она ставила самовар и готовила еду. Принесла из погреба свежего творогу в пеньковом блюде, нарезала скибочками вчерашнего воскресного пирога.
– Ну, Федорушка, ну, Андреёк, садитесь обедать. Ешь, Андреёк, не церемонься!
А ложку мне подложила – загляденье! Под вид лакированной лодочки. Золотистая рыбка захватила в рот кончик черенка.
– Это теперь твоя будет ложка, – сказала тетка. – Завси будешь хлебать ею.
Я наелся и напился чаю с сахаром так, что живот вздулся. Оставив мать с тёткой, пошёл обозревать хозяйство. Все тут казалось мне пригляднее, чище. Идя по закутам, по двору, думал: «Завтра начну орудовать. Вот где жизнь так жизнь! Останусь у них насовсем. Мамку бы еще сюда, тоже насовсем. Еда вон какая! И никакого гому нету…»
Под вечер мать ушла домой, сказав мне напоследок:
– Ну, сынок, оставайся с богом. Слухай дядю, тётку и молодайку. Они тебя за это любить будут.
Немного погодя вернулись с поля дядя Фатей и невестка его Анна, жена старшего сына.
– Здорово, работник! – шутливо гаркнул дядя Фатей и протянул мне широкую сильную руку.
– А – а – а, вот он какой пузырь! – смеясь, сказала Анна и давай вертеть меня туда-сюда, лохматить мои волосы. – Дай-ка я посмотрю, какой он есть, этот хваленый Стойленский Андреёк…
Мне сразу поглянулись её светло-голубые смеющиеся глаза, круглые и румяные, что яблочко, щёки с ямочками, полные пальцы, на одном из которых почти заплыло серебряное обручальное кольцо.
У дяди Фатея было два взрослых сына. Простодушного рябого Ивана звали «вахлаём» и отдали в работники барину Головину. Старший же, Николай, был рослый, красивый щёголь. Он ходил в каменщики и нахватался в городах «слободских» привычек: умывался душистым мылом «Свежее сено» или «Букет моей бабушки», фиксатурил усики, по праздником зимой и летом надевал сапоги с калошами. В калоши втыкал буквы «НБ», сделанные из жести и обозначавшие «Николай Бурцев» (такие буквы для калош продавали в магазинах). Чтобы больше озадачить липяжан своим обхождением, Николай при всяком подходящем случае выговаривал:
– Мерсите вас пардон!
Но ни одной буквы не знал, кроме тех, что были в его калошах. Теперь служил в кавалерии и уже прислал семье фотоснимок: он в парадной форме сидит верхом на вздыбившейся лошади, в правой руке сабля наголо. Под снимком надпись:
Все липяжане приходили смотреть, завистливо ахали, тётка Иваниха при этом утирала фартуком слёзы материнской радости, Анна сияла, а дядя Фатей, едва сдерживая распиравшее его чувство гордости, объяснял посетителям:
– Николай пишет: ежели б ему грамоту, до генерала дошёл бы. А без грамоты, говорит, в генералы выйти нельзя, по уставу не положено…
Собирались косить траву и метать пары. Выказывая усердие, я волчком вертелся около дяди, пока он подводил к таратайке Чалую и «третьяка» (так назывался у нас конь-трёхлеток). Чтобы доказать, что я тоже настоящий работник, подавал то хомут, то седелку, то вожжи. А дядя все похваливал меня:
– Вот так… Молодец, Андреёк! Тащи теперь сюда жбан с водой. Так, так… Веди третьяка, привязывай его к оглобле… Бери у тётки кошелку, ставь в задок… Так!
Потом он сам уложил косу, плужок, борону, хомуты. Из хаты вышла Анна. Мы трое уселись по грядкам таратайки и поехали в поле. Почему-то всё здесь мне было по-новому интересно, и работа, постылая при отце, занимала меня. В поле я внимательно следил, как дядя запрягал Чалую в плужок, а третьяка в борону, как точил и прилаживал косу. Обязанности распределились так: Анна косила траву на широком межнике, я водил третьяка в поводу и вытряхивал на поворотах сор из бороны, а дядя пахал.
Он был хороший плотник, сам сделал себе плужок – маленький, лёгкий на подъём, добротно пробиравший землю. Давно обсмыганные обжи его блестели, палица вспыхивала на солнце огнём. Лента поднятой земли, как живая, перевалилась через палицу и ложилась ровной линией. Хорошо пахал дядя! Шёл за плугом степенно, чуть склонив голову на правый бок. Изредка пошевеливал вожжей и благодушно покрикивал: «Вон лезь!». Это сливалось у него в одно слово «вонлезь». И означало, что кобылка должна выйти из борозды. Чалая хозяина понимала. На поворотах дядя валил плужок набок, отчищал от налипшей земли и перекладывал палицу на другой сошник. Красиво!
А над нами просторное голубое небо, солнце, птицы. И в воздухе запахи трав и цветов. Нет, курская земля славится не одними соловьями. Живал я позже во многих краях нашей страны, но таких запахов нигде не находил. Сорвите стебелёк полыни и оставьте в комнате – аромат его будет изливаться невесть сколько времени. Один цветок полевой розы (шиповника) напоит благоуханием весь дом. Спрячьте в сундук одно яблоко-антоновку – ваш гость учует его. Если же у вас улеживаются пуда два груш-лесничек, то запах их разливается не только в сенях, но и на дворе, и дальше, дальше…
Остановив Чалую, дядя сел на край борозды и крикнул:
– Андреёк! Отдыхай!
И отдых у них был другой, веселый. Я рвал траву и подносил к губам третьяка. Навострив уши, он глядел на меня темно-синими глазами, брал осторожно траву и вкусно хрупал, жуя ее. А я оглаживал его округлые, упитанные бока и упругий круп. Всё радовало меня.
Дядя и Анне велел отдыхать. Мы посидели вместе, потом смотрели, как она косит. А косила она по-бабьи, точить косу не умела. Дядя учил её, а заодно и меня:
– При точке крепче упирай носок в смолянку, чтобы он в землю не уходил. Ежели уткнётся, скользнёт – руку тебе тяпнет коса. Брусок справа и слева твёрже примазывай к щекам косы, а руку от жала держи на отскоке. После бруска погладь щёки смолянкой, вот так… Коса и будет брить.
Дядя Фатей становился в ряд и показывал нам все секреты и хитрости косьбы.
– Ноги растопырь, широко не забирай, а посредственно. Налегай на пятку косы. Левую руку дюжее заноси обточь себя. Тогда коса не будет волочить.
Отец учит сына косить. Фотограф Н. И. Свищова-Паола. Общественное достояние.
Обедали на разостланной под телегой, привяленной и оттого пахучей траве. Пообедав, дядя завалился спать, а я напоил лошадей, задал им корму и отправился с Анной брать пазубники (так у нас называли землянику). Легли на траву, разнимали её и рвали душистую ягоду. Над нами, пронизанные солнечным светом, колыхались на ветру головки шиповника. Мы и его наломали, чтобы увезти домой, «для духу».
С поля возвратились уже в сумерки. Ужинали во дворе. Прямо на разметенной земле Анна разостлала скатерть, и вся семья уселась вокруг нее. Тянуло прохладой. Чай пили со свежими пазубниками, срывая их со стебельков и кидая в рот. Так прошёл мой первый батрацкий день.
В то же лето я узнал много сельской работы. Тяпкой полол в огороде. В поле полол просо, вырывая пальцами ползучую повилику и колючий осот. От уколов осота руки горели огнём. Когда миновала страда, я помогал женщинам рвать подорожник и сечь его на корм поросенку и курам. И кизяк на зиму заготавливал вместе с Анной, а тётка Иваниха указывала, как и что надо делать.
Я с засученными порточками и Анна с подоткнутой юбкой, оба с вымазанными бурой жижей ногами, брали железные вилы, расковыривали в закутах чавкающий навоз, накладывали на носилки и сваливали во дворе. Затем лили в эту кучу воду, месили ногами, набивали деревянные станочки и раскладывали сделанные кирпичи перед домом. Они сохли на солнце. Просохший кизяк складывали особым образом в «конусы», чтобы его прохватило ветром. Топливо готово!
Анна была удалая, сильная баба. Сама запрягала лошадь, закручивала тяжи, а супонь затягивала, что твой мужик. Вечерами мы с ней ездили в поле подкашивать траву. Дома раскидывали на крышах для просушки, а сено складывали в стожок.
Хлеба дядя Фатей косил сам, я делал валки, а Анна вязала снопы. Да так туго вязала, что под свясло трудно было палец поддеть. Я сносил снопы и складывал из них крестцы – прямые, не разлезавшиеся в стороны.
– Ну и Андреёк! – хвалил дядя. – Ишь как он их свинчивает. Буря не развалит!
Он прирабатывал на плотницкой работе и потому мало сеял хлеба. Одонки делал низенькие, мне вполне под силу было кидать снопы на них. И всё у меня ладилось, всё выходило как надо, одно не нравилось: речки в Липягах нет!
Взрослому не понять, что значит для детей река. Без неё им жизнь не в жизнь. Все лето я только обливался из цибарки холодной колодезной водой, и тоска по речке грызла мою душу. Но все равно жизнь у дяди Фатея шла – лучше некуда! В его семье не ругались, не злобились, все уважали друг друга, добродушно шутили. Здесь почувствовал я красоту крестьянского труда и полюбил его.
«Николай Фаддеевич Бурцев на кобыле Тужурке».

3
Маленькую деревушку Липяги надвое перерезал глубокий овраг, заросший мелким кустарником и травой. На той половине, где жили мои дядья, уселось всего-навсего пять домов. За ними легла небольшая полянка, а дальше начинались владения помещика Головина.
Барский мир был отгорожен от мира крестьянского тремя кольцеобразными стенами – матёрым плетнём, жёлтой акацией и строем вековечных дубов. За дубовой стеной виднелся запущенный сад, в глубине которого стоял деревянный дом под камышовой крышей. Двухскатная крыша над воротами давным-давно поросла тёмно-зелёным мхом и лишайником. Слева от калитки, у плетня, приютилась низенькая лавочка. Барин Николай Иванович летом каждый день выходил за ворота и сидел на этой лавочке, посасывая трубку. Обыкновенно бывал он в белой вышитой рубахе, в парусиновом картузике, в чёрных штанах и сапогах с низкими голенищами. На левой руке у него поблескивало массивное золотое кольцо.
Нечего барину делать. Скука ломит его. Часами он сидит у плетня, попыхивает дымком, бесцельно глазеет по сторонам. Жара, томленье, лень… Если мимо проходит баба с вёдрами за водой, барин непременно остановит её:
– Что, Михеевна, жарко?
– Жарко, барин.
– А что, на святой ключ не ходила ещё молиться?
– Да нет, барин, и надо бы, да никак не вырвусь.
– Сходи, сходи!
– Схожу. Може, и схожу…
– Кажись, дождичек будет. Как думаешь, Михеевна?
– Да бог зная, Миколай Ваныч. Оттуль вон, кабыть, замолаживает… Може, к ночи соберется.
Баба проходит. А Николай Иванович сидит себе и сидит, пока не появится из-за угла стадо коров. Это барский пастух Семен пригнал их в обед на водопой. Барин вскидывается с лавочки и отворяет дубовые ворота, пропуская скот на двор. Потом запрет их и уйдёт в хоромы. К выгону и пригону коров, лошадей, свиней, овец барин обязательно бывает у своих ворот, отворяет их и затворяет. Кажется, это единственная его работа.
Я, мальчишка, напрягая детские силёнки и обливаясь потом в кусачую жару, кидал снопы на одонья или, вымазанный навозной жижей, таскал тяжёлые станки с кизяком, а красномордый, большой, сильный помещик посиживал тем временем в холодке, не зная, куда себя деть. И сама очевидность вталкивала в мою голову вопрос: почему же так?
– Эх ты, божья теля! – отвечал дядя Фатей. – Да он же барин! У него работники есть. Так испокон веку ведётся. И в Опочках господа, и в Каплине господа, и у вас в Стойле господа, и в Барановой, и в Ястребовке. Везде господа. Куда же от них денешься? Их власть!
Однажды в воскресенье после обеда дядя и тётка ушли отдыхать в холодок на погребицу. Молодайка залегла на своей кровати. Мне стало скучно, и я отправился бродить по Липягам. Меня давно занимала барская усадьба: что там, за плетнём, творится? Сперва заглядывал с опаской, издали, потом ближе подошёл. Против дома, со стороны сада, припал к плетню, щель разыскал. И вот что я увидел.
Недалеко от барского дома, под старой грушей стояло широкое кресло на колесиках, а в нём что-то розово-красное. Вглядевшись, я различил человеческие черты: щелочки глаз, заплывших жиром; тумбообразные ноги, всунутые в расписные черевики, покоились на скамеечке, руки будто тесто свисали с подлокотников.
В. М. Максимов. Все в прошлом. 1889 г. Государственная Третьяковская галерея. Общественное достояние.
В саду было тихо, прохладно, сонно. Поодаль от кресла на табурете сидела девушка в белом переднике, с вязаньем в руках.
Должно быть, горничная, охранявшая покой спавшей. Я догадался, что увидел барыню. Раздался скрип, сверкнула стеклянная дверь, и на пороге появился барин. Встрепенувшись, горничная подала ему знак рукой: «Тише!» На цыпочках он ушёл в дом.
Долго ещё я смотрел в щёлку, а за ужином рассказал об этом своим. Тётка Иваниха, смеясь, спросила меня:
– Видал теперя господ?
– Видал… В Стойле не такие.
– Они разные бывают.
Дядя Фатей пояснил:
– У нас барышня самая правдашная. Даже ходить сама не может. Её катают на тележке. А на крыльцо двое выводят, третий под гузку подпихивает.
– А почему она такая толстенная? – спросил я.
– От жору, – сказал дядя. – Болезнь, говорят, есть такая – жор. Барыня наша трескает и спит, спит и трескает, а работы у нее нету. Вот и заплыла жиром. Её уже три раза в Москву возили на выкачку сала. Говорят, четыре ведра выкачали – не помогло. И на тёплые воды её возили, и к святым мощам – не берёт! Один доктор будто советовал посадить её в тюрьму. Там, говорит, вытаяла бы за год – моё почтение! В плепорцию бы стала. А то что? Теперь в ней, поди, пудов двенадцать будет. Того и гляди, окапутится, от задышки…
В Липягах в моей голове впервые ясно возник вопрос: для чего на свете живут господа?

4
Дядя Фатей наделал много граблей, вил, вальков, рубелей, крюков для косьбы. Приготовил всё это к торгу на большой успенской ярмарке. В день успенья ещё до восхода солнца мы выкатили из под навеса парадную повозку с резным передком, осмотрели тяжи, чеки, оси, подмазали дёгтем колёса. Соломенным жгутом дядя вычистил Чалую, прихорошил ей гриву, надел узду и хомут с бляхами, похожими на овечьи глаза, принёс цветастую русскую дугу.
Скоро Чалая, впряжённая в повозку, стояла, что невеста, обряженная к венцу. Будто и она понимала торжественность момента, весело помахивала головой, позвякивала удилами, которые дядя никогда не вкладывал ей в рот, потому что смирная была. Я навалил в повозку свежей, вчера накошенной травы, дядя Фатей уложил сверху «товар», и всё я думал, ждал: возьмёт он меня с собою или не возьмёт?
В хате дядя умылся, расчесал гребешком чёрную бороду и волосы, постриженные «под горшок», надел коричневую рубаху и праздничные портки из «чёртовой кожи», надёрнул на босу ногу сапоги, накануне смазанные дёгтем, натянул на голову казинетовый картуз. Выйдя, он приподнял его левой рукой, перекрестился, сел на повозку к передку, взял в руки чёрно-рыжие волосяные вожжи и сказал:
– Ну, с богом! Чего ждёшь, Андреёк? Садись скорей!
Второй раз меня звать не пришлось.
Шесть колоколен Старого Оскола звонили, и гуд колоколов покрывал все звуки природы. Недавно прошёл дождь, накатанная дорога под лучами солнца сверкала колеями, влажная земля меж ними вся была истыкана шипами подков. В город мы приехали рано и облюбовали лучшее место на площади, против дома с вывеской «казённая винная лавка».


