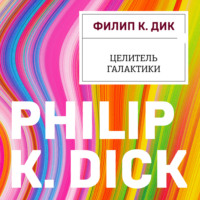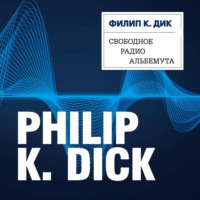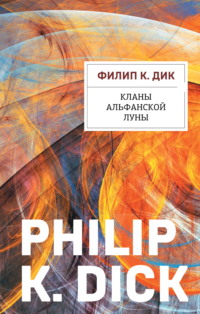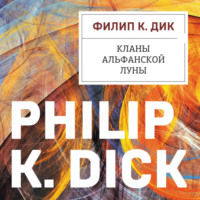Полная версия
Особое мнение
– Дойду, – с вымученной улыбкой заверила его Шарлотта.
Теперь она щеголяла в спортивной фуфайке и свободных штанах, откопанных Фергюссоном в развалинах истлевшего магазина готовой одежды. Совесть его не тревожила: в разбросанном по тротуару тряпье без стеснений копалась куча людей, да и одежки эти продержатся разве что дня два или три.
Гардероб для Шарлотты Фергюссон подбирал не спеша. В подсобке обнаружилась солидная стопка добротных, прочных штанов и рубашек, далеких от превращения в жуткую черную пыль. Недавние копии? Или – невероятно, однако возможно, возможно – оригиналы, использовавшиеся хозяевами магазина для копирования? В еще работавшем обувном магазине удалось подыскать пару удобных туфелек на низком каблуке, а поясной ремень Шарлотте пришлось пожертвовать свой: подобранный в магазине одежды рассыпался в руках при первой же попытке затянуть его вокруг талии.
Изо всех сил прижимая к груди стальной ящик, Унтермайер вместе со спутниками двинулся к центру парка. Люди вокруг молчали, мрачно хмурили брови. Ни разговоров, ни смеха… Каждый принес с собой какую-то вещь – оригинал, бережно хранимый не первую сотню лет, или добротную копию с пустяковым изъяном. Казалось, лица собравшихся обернулись застывшими, неподвижными масками, масками отчаянной надежды пополам со страхом.
– Вот и они. Мертвые яйца, – заметил Доуз, слегка поотставший от остальных.
Посреди купы деревьев у края парка лежали кружком серо-бурые, не слишком правильной формы сферы величиной примерно с баскетбольный мяч. На вид твердые, окаменевшие… однако некоторые оказались надтреснутыми, а вокруг, под деревьями, пестрели россыпи скорлупы.
Стоило Унтермайеру пнуть одно из яиц, тонкая скорлупа тут же разлетелась вдребезги. Порожнее… с чего бы?
– Какой-то зверь досуха высосал, – констатировал Унтермайер. – Вот и конец нам, Фергюссон. Похоже, сюда собаки по ночам повадились шастать. И до яиц добрались, а бильтонгу уже не по силам отогнать их.
В толпе ожидающих постепенно закипало глухое, подспудное возмущение. Налившиеся кровью глаза людей раскраснелись, как угли. Сбившись в плотную массу, обступив центр парка кольцом, собравшиеся крепко сжимали в руках принесенные вещи. Общий гнев нарастал, терпение подходило к концу. Ждали местные жители долго, и, ясное дело, им надоело ждать.
– А это еще что за чертовщина?
Присев на корточки, Унтермайер оглядел странную штуковину, брошенную кем-то под деревом, ощупал блестящую бесформенную глыбу. Казалось, металл растаял, слился в единое целое, точно воск, – поди разбери, что к чему! «Клейстер», иначе не скажешь…
– Моторная газонокосилка, – угрюмо откликнулся человек, стоявший неподалеку.
– Давно отштампована? – поинтересовался Фергюссон.
Ожидавший раздраженно пнул глыбу металла.
– Четыре дня назад… а на вид и не разберешь, что за штука! Старая износилась, я прикатил сюда оригинал из хранилища, целый день в очереди проторчал, и вот… полюбуйтесь, что получил! – зло сплюнув под ноги, прорычал он. – Утиль, чтоб его… даже домой везти смысла нет. Так здесь и бросил.
– И что нам теперь делать? – визгливо, пронзительно взвыла его жена. – Старая-то не работает! Рассыпается, как и все вокруг! Если новые копии никуда не годятся, что ж с нами тогда…
– Заткнись! – оборвал ее муж. Лицо его исказилось в жуткой, отталкивающей гримасе, длинные пальцы крепко стиснули обрезок трубы. – Подождем еще малость. Может, очухается, оживет.
Вокруг воодушевленно зароптали. Шарлотта, невольно вздрогнув, двинулась дальше.
– Я, конечно, ни в чем его не виню, но… какой во всем этом смысл? – устало покачав головой, сказала она Фергюссону. – Если он не наштампует нам хоть сколько-нибудь годных для дела копий…
– Ему не под силу, – пояснил Джон Доуз, остановившись и придержав остальных. – Поглядите на него! Поглядите и объясните мне, чего от него еще можно требовать?
И вправду, бильтонг умирал. Огромный, старый, он высился посреди местного парка курганом древней, пожелтевшей от времени протоплазмы – студенистой, плотной, полупрозрачной. Иссохшие, сморщившиеся псевдоподии неподвижно, точно дохлые черные змеи, покоились в побуревшей траве, бока заметно опали: неяркое солнце над головой выжигало из жил бильтонга влагу, и массивная туша потихоньку оседала, съеживалась.
– Ой, мама, ну и видок! Жуть какая, – прошептала Шарлотта.
Верхушка туши инопланетного существа едва заметно покачивалась из стороны в сторону. Конвульсивно, беспокойно подрагивая, бильтонг цеплялся за угасающую жизнь что было сил. Над его телом бесчисленным роем вились глянцевитые иссиня-черные мухи, привлеченные удушливой, тошнотворной вонью разлагающейся органики, вокруг скопилась мерзкая лужа жидких экскрементов.
Под желтой протоплазмой болезненно подергивалось, подрагивало твердое ядро нервной ткани, студенистая плоть отзывалась на его биение волнами ряби, отмирающие филаменты превращались в обызвествленные гранулы едва ли не на глазах. Возраст… разложение… мука…
На бетонном помосте перед умиравшим бильтонгом лежали грудой оригиналы для тиражирования. Рядом виднелись несколько незавершенных изделий – бесформенные комья черного пепла, смоченного влагой, наполнявшей тело бильтонга, той самой жидкостью, из которой он некогда старательно творил копии. Сейчас он прервал работу, страдальчески втянул уцелевшие псевдоподии в туловище, отдыхал, оттягивал гибель как мог.
– Проклятье! Вот бедолага! – невольно вырвалось у Фергюссона. – Как только держится до сих пор!
– Да он уже битых шесть часов так лежит! – прорычала ему в самое ухо женщина, стоявшая рядом. – Лежит, и плевать ему, что мы тут торчим. Чего ждет, спрашивается? Чтобы мы на колени перед ним встали?
Доуз в ярости развернулся к ней:
– Он умирает, не видишь?! Оставьте вы его, Господа ради, в покое!
Над толпой, окружившей бильтонга, разнесся угрожающий ропот, все взгляды устремились на Доуза, но тот, спокойный, как глыба льда, и бровью не повел. Шарлотта, остановившаяся рядом, застыла, оцепенела, в испуге округлила глаза.
– Ты аккуратнее, – негромко предостерег Доуза Унтермайер. – Кое-кому из этих ребят копии нужны позарез. Некоторые еды дожидаются.
Чувствуя, что время на исходе, Фергюссон выхватил из рук Унтермайера стальной ящик, рывком распахнул крышку, склонился над ним и выложил перед собой в траву привезенные оригиналы.
При виде них толпа вокруг вновь загудела, заахала в благоговейном восторге. «То-то же», – охваченный мрачным удовлетворением, подумал Фергюссон. Таких оригиналов в местном хранилище не имелось – разве что плохонькие копии. Копии второсортных дубликатов. Один за другим собрав драгоценные образцы, он двинулся к бетонному помосту перед бильтонгом. Несколько человек в ярости заслонили ему дорогу, но, разглядев оригиналы в его руках, немедленно расступились.
Первой на помост легла серебряная «ронсоновская» зажигалка. За нею последовал бинокулярный микроскоп от «Бауш энд Ломб» – вороненый, без единой царапины, в пупырчатой, новенькой фабричной коже. И прецизионный звукосниматель от «Пикеринг». И сверкающий хрусталем бокал от «Штойбен».
– Оригиналы – первый класс, – завистливо вздохнул кто-то из стоявших поблизости. – Где вы их раздобыли?
Однако вопрос его остался без ответа. Фергюссон замер, не сводя глаз с умирающего бильтонга.
Бильтонг даже не шевельнулся, но новые оригиналы, добавленные к остальному, увидел. Твердые нервные волоконца под студенистой массой замельтешили, сплелись воедино. Переднее ротовое отверстие дрогнуло, приоткрылось. Груда протоплазмы всколыхнулась бурной волной, из ротового отверстия, пузырясь, повалила вонючая пена, одна из псевдоподий изогнулась, мучительно медленно поднялась над скользкой от слизи травой, замерла и коснулась «штойбеновского» хрусталя.
Собрав в кучку пару горстей черного пепла, бильтонг обдал ее жидкостью из ротового отверстия. Миг… и пепел превратился в тусклый бесформенный ком, в жалкую карикатуру на «штойбеновский» бокал. Бильтонг, вновь содрогнувшись, подался назад, замер, собрался с силами и еще раз коснулся бесформенного комка, но… Внезапно вся его туша затряслась крупной дрожью, псевдоподия бессильно упала в траву, свернулась кольцом, вновь замерла и устало втянулась обратно в студенистую тушу.
– Без толку, – хрипло выдохнул Унтермайер. – Не справляется. Поздно.
Охваченный дрожью Фергюссон неловко, кое-как справившись с одеревеневшими пальцами, собрал оригиналы и сложил в стальной ящик.
– Похоже, я оказался не прав, – пробормотал он, поднимаясь на ноги. – Думал, поможет… но кто ж знал, что дело зашло так далеко!
Шарлотта, ошеломленная, онемевшая от потрясения, не разбирая дороги, двинулась прочь сквозь густую толпу разъяренных людей, сгрудившихся вокруг бетонного помоста. Унтермайер поспешил за ней.
– Погодите минутку, – окликнул спутников Доуз. – У меня тоже есть для него кое-что новенькое. Пусть попробует.
Фергюссон, устало поникнув головой, остановился, а Доуз, порывшись в карманах рубахи, извлек на свет сверток из старой газеты. В газете оказалась чашка – всего-навсего чашка для питья, грубо сработанная, неровная, однако Доуз со странной лукавой улыбкой присел на корточки и поставил ее перед бильтонгом.
Слегка озадаченная, Шарлотта шагнула к нему.
– А смысл? Допустим, он ее даже скопирует, и что? – сказала она, бесцеремонно толкнув неказистую деревянную поделку носком туфельки. – Такие пустяковины самому штамповать можно.
Фергюссон, вскинув голову, встретился взглядом с Доузом. Какой-то миг оба взирали один на другого. Доуз слегка улыбнулся, и Фергюссон замер, оцепенел, осененный внезапной догадкой.
– Да, так и есть, – подтвердил Доуз. – Я ее сделал сам.
Фергюссон, внутренне трепеща, схватил чашку и принялся разглядывать ее со всех сторон.
– Сделал… сам? Быть не может! Чем?! Из чего?!
– Вначале мы повалили несколько деревьев, а дальше…
С этими словами Доуз извлек из чехла на поясе нечто металлическое, тускло блеснувшее в чахлых лучах солнца.
– Вот. Только осторожнее, не порежься.
Нож оказался таким же неказистым, как чашка, – клинок грубой ковки, рукоять согнута вдвое, обмотана проволокой…
Фергюссон в изумлении вытаращил глаза.
– Скажешь, нож тоже ты сделал? Не верю. Как хочешь, не верю. Не может быть. Начало-то где? Без инструментов ножа не сделаешь, а где их взять?! Парадокс! Заколдованный круг! – истерически повысив голос, выкрикнул он.
Шарлотта, уныло вздохнув, отвела взгляд в сторону.
– Куда он годится? Им же ничего не разрежешь. Вот у меня на кухне, – с тоской добавила она, – полный набор ножей на любой вкус был. Нержавеющие, лучшая шведская сталь… а теперь от них не осталось ничего, кроме черного пепла.
С языка Фергюссона рвались миллионы вопросов разом.
– Чашка, нож… выходит, вас много? А штаны и рубаха из чего? Вы и материю сами ткать научились?
– Идемте-ка, – оборвал его Доуз, забрав чашку с ножом и быстрым шагом двинувшись к воротам парка. – Убираться отсюда пора. По-моему, конец близок.
Собравшиеся в парке тоже потянулись к выходу. Отчаявшиеся, смирившиеся с поражением жители гибнущего поселения, понурив головы, брели прочь на поиски скудных остатков провизии, уцелевших в развалинах магазинов. Пара-другая машин зафырчали, забормотали, ожили и неуверенно покатили вдаль.
Унтермайер нервно облизнул вялые губы. От страха его рыхлое, одутловатое лицо посерело, точно наждак.
– Сейчас тут такое начнется, – негромко сказал он Фергюссону. – Поселение разваливается на глазах. Еще часа два-три, и здесь не останется ничего. Ни пищи, ни крыши над головой.
С этим он искоса взглянул в сторону «Бьюика», а после глаза его сделались непроницаемыми, тусклыми, будто олово.
На «Бьюик» обратил внимание вовсе не только он.
Вокруг огромного пыльного автомобиля мало-помалу собралась небольшая толпа – сплошь мужчины с мрачными, потемневшими лицами. Будто недобрые, жадные детишки, все они разглядывали «Бьюик» с напряженным вниманием, осматривали крылья, капот, щупали фары и твердые шины. У всех имелось немудреное оружие – обрезки труб, камни, кривые стальные прутья, подобранные в развалинах рухнувших зданий.
– Сообразили, что машина нездешняя, а значит, поедет назад, – заметил Доуз.
– Хочешь, едем со мной, в питтсбургское поселение, – предложил Фергюссон Шарлотте и двинулся к машине. – Зарегистрирую тебя как жену, а там уж сама решай, формальности это или что другое.
– А как же Бен? – еле слышно спросила Шарлотта.
Фергюссон ускорил шаг.
– Жениться еще и на нем я не могу. Захочет – пусть едет с нами, только остаться ему не позволят. Против квот не попрешь. Вот после, со временем, когда у нас осознают всю серьезность положения…
– С дороги, – рыкнул Унтермайер, угрожающе двинувшись к обступившим машину.
Те призадумались, неуверенно подались назад и наконец расступились.
Унтермайер расправил широкие плечи и встал у дверцы, зорко поглядывая по сторонам.
– Веди ее сюда, да не зевай! – крикнул он Фергюссону.
Фергюссон с Доузом, подхватив Шарлотту под локти, миновали цепочку местных и подошли к Унтермайеру. Приняв от Фергюссона ключи, толстяк рывком распахнул переднюю дверцу, втолкнул в кабину Шарлотту и кивнул Фергюссону: живей, мол, садись с той стороны.
Столпившиеся вокруг встрепенулись, бросились к ним.
Одним ударом огромного кулака отшвырнув самого прыткого из нападавших в толпу остальных, Унтермайер с трудом протиснулся в машину мимо Шарлотты и перебрался за руль. Мотор не подвел, завелся с пол-оборота. Переключившись на первую передачу, Унтермайер свирепо вдавил в пол педаль газа. Машина рванулась вперед. Преследователи, остервенело цепляясь за распахнутую дверцу, потянулись к сидящим внутри.
Унтермайер захлопнул дверцу и запер ее на замок. Взглянув вслед набирающему скорость «Бьюику», Фергюссон в последний раз мельком увидел потное, искаженное страхом лицо толстяка за стеклом.
Преследователи цеплялись за скользкие борта машины что было сил, но все напрасно. Стоило «Бьюику» набрать ход, все они один за другим попадали наземь, и только один, громадный, рыжеволосый, распластавшийся на капоте, маниакально тянулся сквозь выбитое лобовое стекло внутрь, к лицу водителя. Увернувшись, Унтермайер заложил крутой вираж, и рыжеволосый, соскользнув с капота, безмолвно рухнул ничком на растрескавшуюся мостовую.
Машина вильнула, накренилась на сторону, но тут же выправилась и вскоре скрылась из виду за рядом покосившихся зданий. Недолгое время спустя визг протекторов стих вдалеке. Унтермайер с Шарлоттой полным ходом мчались к спасительным рубежам питтсбургского поселения.
Фергюссон глядел вслед умчавшемуся «Бьюику», пока его плечо не стиснули тонкие, сильные пальцы Доуза.
– Ну что ж, – пробормотал он, очнувшись от оцепенения, – машины у нас больше нет. Ладно. По крайней мере, Шарлотте спастись удалось.
– Пошли, пошли, – настойчиво шепнул ему на ухо Доуз. – Надеюсь, у тебя крепкие башмаки: путь предстоит неблизкий.
Фергюссон заморгал.
– Путь? Какой путь, куда?..
– До ближайшего из наших лагерей тридцать миль. Полагаю, дойдем. Мне лично не впервой.
С этим Доуз зашагал к окраине поселения, а Фергюссон, поразмыслив пару секунд, двинулся следом.
Позади вновь собиралась толпа. На этот раз центром всеобщего интереса сделалась неподвижная туша бильтонга. Гневный ропот набирал силу с каждой секундой: досада и чувство собственного бессилия, порожденные утратой машины, выплеснулись наружу, приняв обличье жуткой, отталкивающей какофонии, кровожадного рева и визга. Подобно заполняющей запруду воде, зловещая, распаленная жаждой убийства людская масса хлынула к бетонному помосту.
На помосте беспомощно ждал конца умирающий древний бильтонг. Людей он заметил. Заметил и, собрав последние силы, приподнял судорожно изогнутые псевдоподии.
При виде всего этого ужаса Фергюссону сделалось так стыдно, что стальной ящик, выскользнувший из онемевших от стыда за весь род человеческий пальцев, с лязгом упал, распахнулся от удара о землю. Машинально подобрав его, Фергюссон выпрямился и снова замер на месте в полной растерянности. Хотелось бежать, бежать – слепо, не разбирая дороги, все равно, куда, лишь бы подальше отсюда. В безмолвие, во мрак, навстречу ползучим теням за окраиной поселения. Навстречу бесчисленным акрам выжженной, мертвой земли.
Перед смертью бильтонг пытался сотворить вокруг себя защитную баррикаду, загородиться от надвигающейся толпы прочной стеной из пепла пополам с клейкой жидкостью…
Спустя пару часов Доуз замедлил шаг, остановился и плюхнулся на землю, в черный пепел, простиравшийся во все стороны, насколько хватало глаз.
– Отдохнем малость, – сообщил он Фергюссону. – Перекусить приготовим – у меня есть кое-какие запасы. Огонь твоей «ронсоновской» зажигалкой можно разжечь, если в ней найдется хоть немного бензина.
Фергюссон поднял крышку стального ящика и подал ему зажигалку. Над бесплодной землей угрюмо клубились тучи черного пепла, поднятого в небеса студеным зловонным ветром. Вдали, точно сломанные кости, вздымались ввысь остатки полуразрушенных стен. Тут и там из земли пробивались зловещие темно-серые метелки сорной травы.
– Земля не настолько мертва, как кажется с виду, – заметил Доуз, выбирая из пепла сухой хворост, щепки и клочья бумаги. – Сам знаешь, в пустошах и кролики водятся, и собаки. И семян разных куча. Водицы им – они и прорастут.
– Водицы… а где ее взять? С неба ведь не польется.
– Каналы приходится рыть. Вода есть, только до нее докопаться нужно.
Бензин в зажигалке нашелся. Запалив небольшой костерок, Доуз вернул ее Фергюссону и принялся подкладывать в огонь хворост.
Фергюссон задумчиво повертел зажигалку в руках.
– А вот такую вещь вы как сделаете? – без околичностей спросил он.
Доуз извлек из кармана пальто сверток с пищей – круто посоленным вяленым мясом и запеченной в углях кукурузой.
– Никак. Сразу со сложных вещей начать не удастся. К сложному постепенно, долго придется идти.
– А здоровый бильтонг – к примеру, наш, питтсбургский, – в два счета с нее отштампует такую же. Ничем не хуже образца.
– Знаю, – подтвердил Доуз. – Это-то нас и сдерживает. Приходится ждать, пока они не отступятся. Но ничего, дождемся. Как бы там ни было, а восвояси они уберутся: оставаться здесь для них – самоубийство чистой воды.
Фергюссон судорожно сжал в кулаке зажигалку.
– Так ведь с их уходом и цивилизация наша сгинет!
– Цивилизация? Вот эта зажигалка? – хмыкнул Доуз. – Да, сгинет. Не навсегда, но надолго. Однако ты, кажется, не понимаешь, к чему дело идет. Хочешь не хочешь, придется нам учиться всему заново. Каждому, черт побери. Думаешь, мне легко? Ошибаешься!
– Кстати, откуда ты?
– Из Чикаго, – негромко ответил тот. – Один из немногих, кому посчастливилось уцелеть. После того как там все рухнуло, бродил по окрестностям, кроликов бил камнями, спать забирался в подвалы, голыми руками отбивался от псов и наконец отыскал один из лагерей. Началось-то все не с меня. Ты, дружище, об этом, похоже, не знаешь, однако чикагское поселение погибло вовсе не первым.
– И вы там, в лагерях, инструменты сами штампуете? Вроде этого ножа?
Доуз расхохотался в голос.
– Не штампуем, а делаем! Мастерим – вот как лучше выразиться.
Вынув из кармана неказистую деревянную чашку, он поставил ее в пепел перед собой.
– Штамповка – это простое копирование. Тиражирование готового. А вот что такое «мастерить», я тебе объяснить не сумею, соображай сам. Одно скажу: штамповать и мастерить – совершенно разные вещи.
С этими словами Доуз прибавил к деревянной чашке изящный «штойбеновский» бокал и бесформенный ком пепла – его неудачную копию, слепленную умиравшим бильтонгом в последние минуты жизни.
– Вот это прошлое, – пояснил он, указав на «штойбеновский» бокал. – Когда-нибудь мы, шаг за шажком, дорастем до него опять… но путь будет долгим и трудным.
Сделав паузу, Доуз бережно уложил бокал в стальной ящик.
– Сохраним. Только не ради копирования, а для памяти, как цель, к которой нужно стремиться. Вижу, пока что ты разницы не улавливаешь, но со временем разберешься. Сейчас мы с тобой вот здесь, – продолжил он, указав на деревянную чашку. – И не стоит над ней насмехаться. Не стоит говорить: это, мол, не цивилизация. Может, она и проста, и не слишком красива – зато настоящая. Первый шаг на пути вверх.
Умолкнув, он подобрал с земли бесформенный ком, отдаленно напоминавший хрусталь, – все, что осталось на память о злосчастном бильтонге, ненадолго задумался и что было сил швырнул его вдаль. Ком, жалобно звякнув о камень, подскочил вверх и разлетелся вдребезги.
– А это – вообще ничто! – с жаром провозгласил Доуз. – Моя чашка куда лучше. Куда ближе к «штойбеновскому» хрусталю, чем любая копия!
– Похоже, ты этой чашкой изрядно горд, – заметил Фергюссон.
– Еще бы, черт побери! – подтвердил Доуз и уложил деревянную чашку в металлический ящик, рядом со «штойбеновским» бокалом. – Однажды ты сам поймешь, почему. Не сразу, со временем, но поймешь обязательно.
Прежде чем опустить крышку, он закусил губу, пощупал «ронсоновскую» зажигалку и с сожалением покачал головой.
– Не в наше время… промежуточных шагов многовато, – вздохнул он и закрыл ящик, но вдруг его костлявое лицо озарилось внутренним светом, глаза заблестели, словно бы в предвкушении чуда. – Многовато… однако, ей-богу, мы на верном пути!
Ветеран
Устроившись на скамье под ослепительным, жарким солнцем, старик принялся наблюдать за гуляющей в парке публикой.
Парк был опрятен и чист. В траве газонов искрились мелкие капли воды, брызжущей из сотни сверкающих медью труб. Там и тут ползали блестящие хромировкой садовые роботы. Они трудолюбиво выпалывали сорняки, обирали с листьев гусениц, а всяческий сор отправляли в прорезь мусоросборника на боку. Повсюду с воплями резвились детишки. На скамьях, разморенные жарой, подремывали, держась за руки, юные парочки. Лениво – руки в карманах – прогуливавшиеся по дорожкам группы молодых, симпатичных солдат любовались обнаженными смуглыми девицами, загорающими у пруда. Мимо ограды парка с ревом мчались машины, а в вышине, на фоне ясного неба, сверкали громадные игольно-острые шпили небоскребов Нью-Йорка.
Откашлявшись, старик угрюмо сплюнул в кусты. Жара и слепящее солнце здорово раздражали: мало того что свет чересчур желт, так еще и убогий, поношенный пиджак пропотел насквозь. К тому же яркие солнечные лучи будто нарочно выставляли на обозрение все его убожество – и неопрятную седую щетину на подбородке, и пустую глазницу под левой бровью, и глубокий, жуткий рубец ожогового шрама почти во всю щеку величиной. Беспокойно поправив дугу гарнитуры на тощей цыплячьей шее, старик расстегнул пиджак, оперся о блестящие металлом планки сиденья и с трудом выпрямился. Истосковавшийся, одинокий, обиженный на весь свет, он в сотый раз огляделся вокруг и снова не обнаружил в пасторальном окружении – деревьях, траве, беззаботно играющих ребятишках – ничего интересного.
Но вот трое юных светлолицых солдат, усевшись на скамью напротив, принялись деловито разворачивать картонки с провизией для пикника.
Зловонное, сиплое дыхание старика комом застряло в горле, износившееся с годами сердце забилось куда чаще прежнего. Впервые за многие часы оживившись, старик очнулся от летаргической дремы, устремил близорукий, мутный взгляд на солдат, вытер взмокшее от пота лицо носовым платком и заговорил:
– Приятный денек, а?
Солдаты смерили его равнодушными взглядами.
– Ага, – согласился один.
– Неплохая работа, – заметил старик, кивнув в сторону желтого солнечного диска и шпилей города. – Выглядит безукоризненно.
Солдаты, не ответив ни слова, целиком сосредоточились на чашках дымящегося черного кофе и яблочном пироге.
– Совсем как настоящее, – с грустью продолжил старик, а после слегка замялся, набираясь храбрости. – А вы, ребята, не в минерах ли служите?
– Нет, мы ракетчики, – ответил один из троицы.
Старик крепко стиснул в руке алюминиевую трость.
– А я служил в подрывниках, – сообщил он. – В старой доброй ШБ-три.
Никто из солдат не откликнулся. Все трое оживленно зашептались между собой: на них обратили внимание девицы со скамейки чуть дальше.
Старик, сунув руку за отворот пиджака, извлек из внутреннего кармана нечто, завернутое в изрядно засаленную, разлохмаченную бумажную салфетку. Дрожащими пальцами развернув бумагу, он поднялся на ноги, заковылял через посыпанную щебнем дорожку к скамейке солдат и поднял к груди небольшой, блестящий металлом квадратик.
– Видали? В восемьдесят седьмом получил. Вас-то тогда, надо думать, еще и на свете не было…
Солдаты тут же оживились, вскинули головы.
– Ого! Хрустальный Диск первой степени! – в восторге присвистнув, выдохнул один из них и вопросительно взглянул на старика. – За что же вас им наградили?